Централизация — это… Что такое Централизация?
- Централизация
- Централизация — условие, при котором право принимать наиболее важные решения остается за высшими уровнями управления.
Словарь терминов антикризисного управления. 2000.
Антонимы:
- Ценовая политика
- Цепочка «производство — потребности потребителя»
Смотреть что такое «Централизация» в других словарях:
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — (лат., от centrum центр). Сосредоточение действий или власти в одном общем месте; сосредоточение управления в одних руках и т. п. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ лат. centralisatio, от … Словарь иностранных слов русского языка
централизация — и, ж.
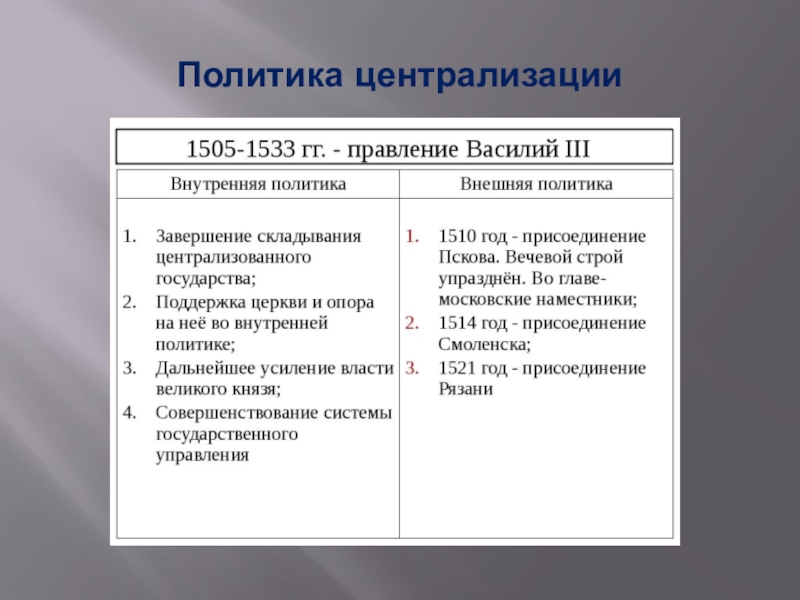
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, централизации. мн. нет, жен. Действие по гл. централизовать и состояние по гл. централизоваться. Централизация власти. Централизация управления. Централизация капитала. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
централизация — концентрирование, соединение, сплочение, концентрация, объединение, группирование, сигнализация, скопление, слияние, сливание, единение, сводка, совмещение, сосредоточение Словарь русских синонимов. централизация сущ., кол во синонимов: 19 • … Словарь синонимов
- централизация — ЕНТРАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь; ованный; сов.
 и несов., что. Сосредоточить ( чивать) что н. в одном центре, подчинить ( нять) одному центру (в 3 и 5 знач.). . работу. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
и несов., что. Сосредоточить ( чивать) что н. в одном центре, подчинить ( нять) одному центру (в 3 и 5 знач.). . работу. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — англ. centralization; нем. Zentralisierung. Сосредоточение ч. л. в одних руках, в одном центре. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 … Энциклопедия социологии
централизация — 1. Сосредоточение чего либо в одном месте, в одних руках, в одном центре. 2. Условие, при котором право принимать наиболее важные решения остается за высшими уровнями управления. [http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] Тематики бухгалтерский… … Справочник технического переводчика
централизация
Централизация — в иерархической системе такая реорганизация протекающих внутри системы процессов, при которой часть процессов переводится на более высокий (ближе к корню) уровень иерархии; соответственно, при децентрализации на более низкий (дальше от корня)… … Википедия
Централизация — (биологическая) объединение в процессе эволюции отдельных клеток, тканей или органов, выполняющих сходные функции, в единый орган или систему органов.
 Например, Ц. диффузно расположенных нервных клеток в нервные стволы у ресничных червей; … Большая советская энциклопедия
Например, Ц. диффузно расположенных нервных клеток в нервные стволы у ресничных червей; … Большая советская энциклопедия
Слишком дорогая централизация — Ведомости
Чтобы разобраться с тем, в какой ситуации сейчас находится в России институциональное взаимодействие центра и регионов, следует обратиться к истокам власти. Устройство государства, во-первых, может предполагать божественное происхождение гражданской власти. Бог делегирует полномочия своему помазаннику, тот делегирует часть от своей власти представителю на территории и т. д. – до приказчика в поселении. Исторически через эту модель прошли почти все государства, а сейчас она свойственна, например, арабским и целому ряду азиатских авторитарных стран.
Во втором, обратном случае, предполагается, что вся власть изначально принадлежит человеку. Граждане избирают для предоставления общественных услуг делегатов, наделяя их соответствующими ресурсами. Такой способ построения пирамиды тоже приводит к многоуровневому устройству, при этом каждому вышестоящему делегируются все более узкие задачи на все большей территории. Этот способ более хлопотный, требует выборов, болезненных согласований, многоуровневых институтов гражданского контроля. Круг вопросов к вершине пирамиды сужается, и тому, кто на самом верху, почти ничего не остается, как английской королеве или немецкому президенту. И это никого не беспокоит, пока все хорошо. Но в чрезвычайной ситуации – войны или стихийного бедствия – кто-то один должен взять бразды правления в свои руки и принимать решения гораздо быстрее, чем позволяют демократические процедуры. Наступает звездный час особых полномочий, который приравнивает избранника народа к помазаннику Божьему, т. е. демократическая парадигма устройства общества как бы временно отменяется в пользу конкурирующей, божественной модели.
Этот способ более хлопотный, требует выборов, болезненных согласований, многоуровневых институтов гражданского контроля. Круг вопросов к вершине пирамиды сужается, и тому, кто на самом верху, почти ничего не остается, как английской королеве или немецкому президенту. И это никого не беспокоит, пока все хорошо. Но в чрезвычайной ситуации – войны или стихийного бедствия – кто-то один должен взять бразды правления в свои руки и принимать решения гораздо быстрее, чем позволяют демократические процедуры. Наступает звездный час особых полномочий, который приравнивает избранника народа к помазаннику Божьему, т. е. демократическая парадигма устройства общества как бы временно отменяется в пользу конкурирующей, божественной модели.
В этом рациональный механизм происхождения колебаний государственных режимов от большей к меньшей степени централизации. Чрезвычайная ситуация требует централизации, а устойчивое развитие – децентрализации. Свой путь от восторга перед идеалами демократии и децентрализации до запроса на сильную руку Россия наряду с целым рядом других транзитных демократий прошла в 1990-е гг. Спаситель был всенародно приветствован, и ему были вручены чрезвычайные полномочия для быстрой победы над врагами и коррупцией. В обычной ситуации демократическая парадигма получает следующий шанс в течение ближайших же электоральных циклов, когда сильная рука не справляется с задачей повышения уровня жизни, а государственный аппарат стремительно теряет эффективность и становится все более коррумпированным. Но в России сильная рука Путина за счет уникальной конъюнктуры цен на продукты российского экспорта в течение почти всех 2000-х гг. прочно ассоциировалась у населения с ростом уровня жизни, что не давало демократическому тренду вернуться на арену. А значит, все эти годы продолжался процесс бесконечной централизации ресурсов и маргинализации регионального и муниципального уровня управления.
Спаситель был всенародно приветствован, и ему были вручены чрезвычайные полномочия для быстрой победы над врагами и коррупцией. В обычной ситуации демократическая парадигма получает следующий шанс в течение ближайших же электоральных циклов, когда сильная рука не справляется с задачей повышения уровня жизни, а государственный аппарат стремительно теряет эффективность и становится все более коррумпированным. Но в России сильная рука Путина за счет уникальной конъюнктуры цен на продукты российского экспорта в течение почти всех 2000-х гг. прочно ассоциировалась у населения с ростом уровня жизни, что не давало демократическому тренду вернуться на арену. А значит, все эти годы продолжался процесс бесконечной централизации ресурсов и маргинализации регионального и муниципального уровня управления.
Децентрализовать регионы
С точки зрения основ управления Россия сегодня использует для менеджмента своей региональной политики совершенно неадекватную модель.
Когда в некотором сложном образовании выделяется орган, принимающий на себя миссию регулирования остальных элементов, он сталкивается с барьерами, ограничивающими его возможности.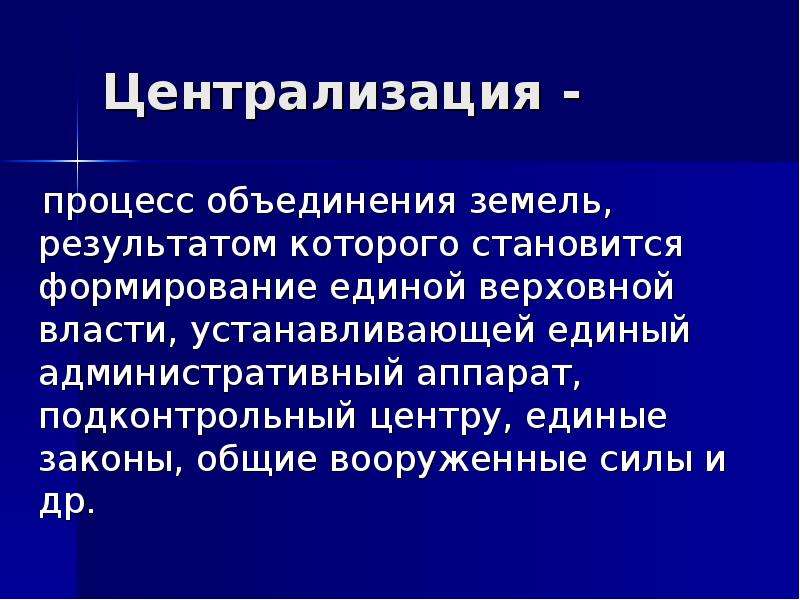 Первый барьер обусловлен тем, что всегда существует предел сложности системы, с управлением которой он может справиться, разнообразно реагируя на ситуации, требующие именно различных реакций. Второй барьер связан с ограниченной способностью принимать большое количество решений в режиме реального времени. Если поток запросов превышает производительность, то орган управления превращается в генератор хаоса. Третий барьер связан с информационным обеспечением в иерархических системах. Бесконечные отчеты и справки, направляемые с мест в адрес центральной власти, никогда не бывают ни полными, ни точными, ни актуальными, а их обобщение приводит к неадекватным выводам. Это закон: слишком большие и слишком сложные иерархически организованные системы всегда неэффективны и неживучи в реальной среде со всем ее разнообразием. Они погибают неизбежно, и отнюдь не от недостаточной централизации управления, а именно от попыток централизовать слишком много.
Первый барьер обусловлен тем, что всегда существует предел сложности системы, с управлением которой он может справиться, разнообразно реагируя на ситуации, требующие именно различных реакций. Второй барьер связан с ограниченной способностью принимать большое количество решений в режиме реального времени. Если поток запросов превышает производительность, то орган управления превращается в генератор хаоса. Третий барьер связан с информационным обеспечением в иерархических системах. Бесконечные отчеты и справки, направляемые с мест в адрес центральной власти, никогда не бывают ни полными, ни точными, ни актуальными, а их обобщение приводит к неадекватным выводам. Это закон: слишком большие и слишком сложные иерархически организованные системы всегда неэффективны и неживучи в реальной среде со всем ее разнообразием. Они погибают неизбежно, и отнюдь не от недостаточной централизации управления, а именно от попыток централизовать слишком много.
Кризис российской региональной политики последних 5–7 лет и особенно поведение центра в момент кризиса 2008–2009 гг. в полной мере обусловлены действием этих барьеров. Региональная политика себя полностью дискредитировала, а возникший в связи с бюджетным кризисом дефицит инвестиционных ресурсов на федеральном уровне превратил централизованную модель в завершенный абсурд: мы вам не дадим ни денег, ни полномочий.
в полной мере обусловлены действием этих барьеров. Региональная политика себя полностью дискредитировала, а возникший в связи с бюджетным кризисом дефицит инвестиционных ресурсов на федеральном уровне превратил централизованную модель в завершенный абсурд: мы вам не дадим ни денег, ни полномочий.
У каждого государства своя история и свое сложившееся в результате этой истории территориальное устройство. Регион представляет собой некоторую социально-экономическую целостность, со своей идентичностью и своими условиями выживания. Говорить об управлении регионом проблематично, поскольку территорией управлять нельзя, а жителями и инвесторами не надо. Термин «региональное управление» может или а) означать региональное самоуправление, или б) представлять собой фиговый листок, который прикрывает централизованную эксплуатацию регионов центром. В зависимости от выбранной парадигмы региональные органы власти или отвечают за все, что им поручено сверху, или, наоборот, за все, что не является мандатом центра, а значит, находится в ведении регионов. В демократическом государстве не надо раздавать полномочия регионам, достаточно перестать эти полномочия отнимать.
В демократическом государстве не надо раздавать полномочия регионам, достаточно перестать эти полномочия отнимать.
Потерянные 3% роста ВВП в год
В 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления и этим расписалась под базовым принципом: «Услуги общественного значения должны предоставляться преимущественно теми органами управления, которые ближе всего к гражданам. Передача полномочий и ответственности за эти услуги другим органам может осуществляться только на основе тщательной оценки специфики решаемых задач, а также требований эффективности и экономической целесообразности». Очевидно, что политическая практика в региональной политике России последних 10 лет иная и прямо противоречит хартии. Экономическая нецелесообразность такой централизации очевидна. Вопрос только в том, достаточно ли страна богата, чтобы позволять себе неоправданную централизацию управления общественными делами и содержать огромный управленческий аппарат, снижающий самим фактом своего существования эффективность управления, генерируя потери, на порядки превышающие расходы на собственное содержание.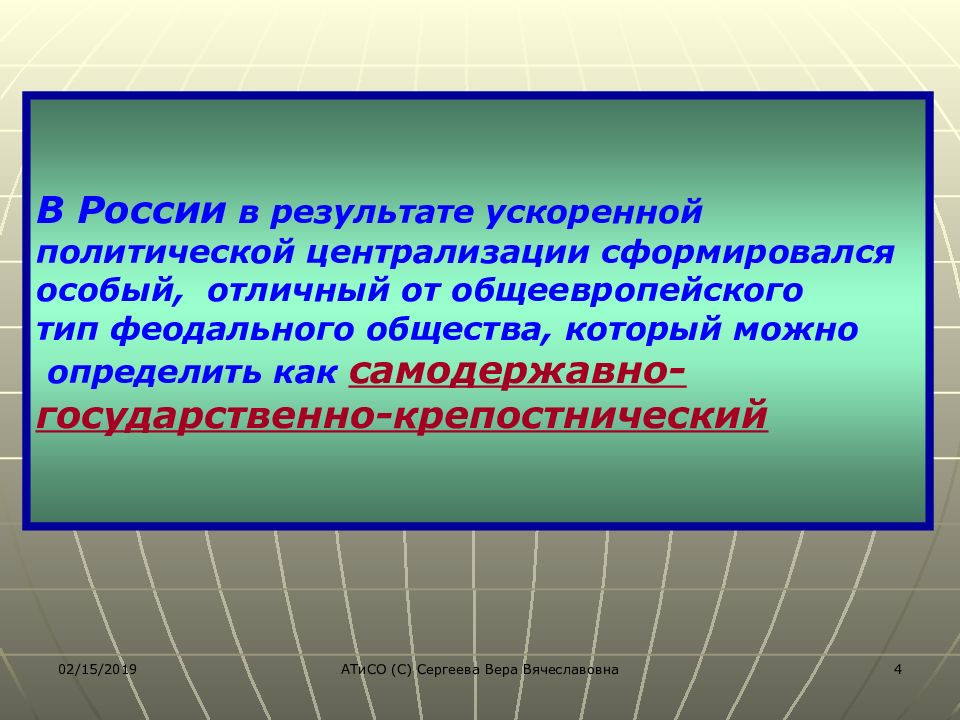 Сложно не согласиться с оценками ряда авторитетных экспертов, что Россия теряет на неэффективности региональной политики около 3% роста ВВП в год.
Сложно не согласиться с оценками ряда авторитетных экспертов, что Россия теряет на неэффективности региональной политики около 3% роста ВВП в год.
Невозможно переоценить общественный вред от вмешательства в процессы самоорганизации на местах, который тем больше, чем шире круг вопросов, якобы решаемых в центре. Спасение российской региональной политики – в принципиальной дезагрегации сложных общенациональных задач на задачи, гораздо проще решаемые в масштабах регионов и самоуправлений. Все живое в природе существует благодаря самоорганизации, ибо только самоорганизация обеспечивает необходимую гибкость и эффективность. Начинать надо не с расширения полномочий регионов, а с ограничения полномочий центра, оставив регионам максимум прав и ресурсов для решения всех остальных вопросов, которые центр в любом случае для всей страны вовремя и правильно решать не в состоянии. Местные сообщества способны на многое, если им не мешать. Везде в России, где принимается больше самостоятельных решений, глаз радуют позитивные явления экономического и социального развития.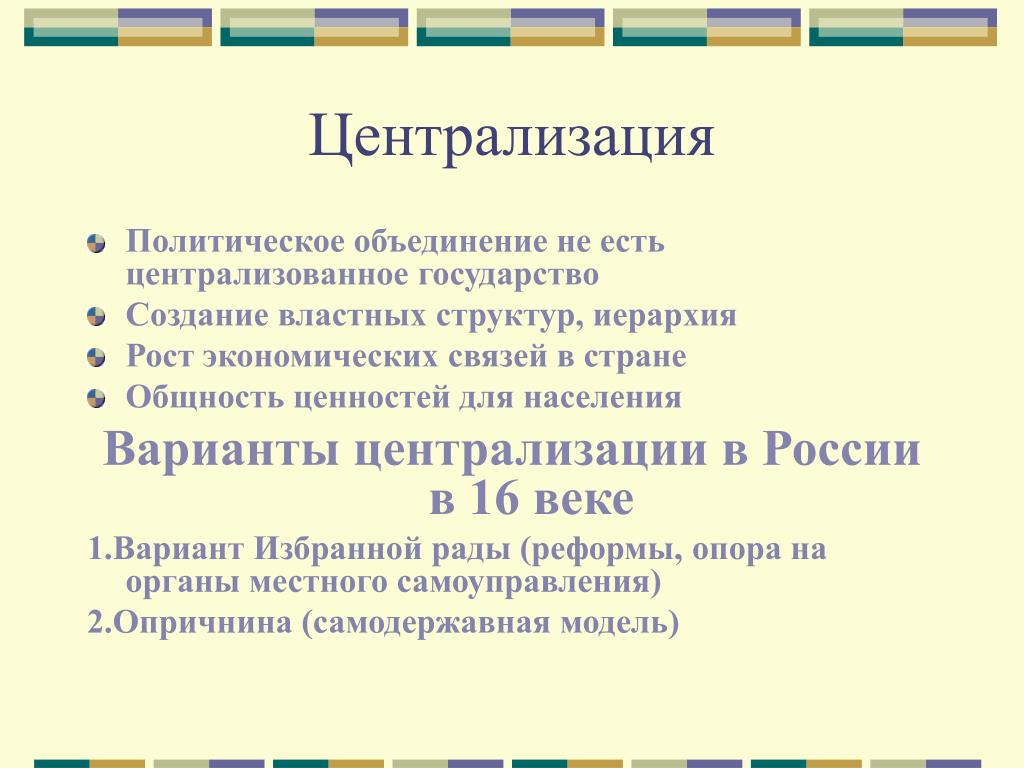
Противоположных примеров тоже не занимать. Устойчивая деградация имеет место везде, где для этого созданы соответствующие условия, и, увы, как правило, решениями, принимаемыми, а чаще не принимаемыми в столице.
России, безусловно, нужен сильный центр. Поэтому нельзя ставить под удар судьбу страны, ослабляя возможность эффективного решения общенациональных задач перегрузкой центрального аппарата неэффективным решением задач, с которыми много лучше могут справиться местные сообщества на своем уровне.
Материал продолжает серию публикаций «Пермский договор», которые, мы надеемся, будут способствовать выработке новой модели общественного договора в России. Первая статья серии, написанная основными модераторами форума («Децентрализация в обмен на лояльность»), вышла неделю назад, 1.07.2011. Приглашаем к дискуссии.
Публикации сотрудников в СМИ — Вадим Волков. Ведомости, Extra Jus: Процесс – все, результат – ничто
Научный руководитель ИПП ЕУСПб Вадим Волков о том, как государство утратило способность управлять чем-либо, кроме процесса отчетности.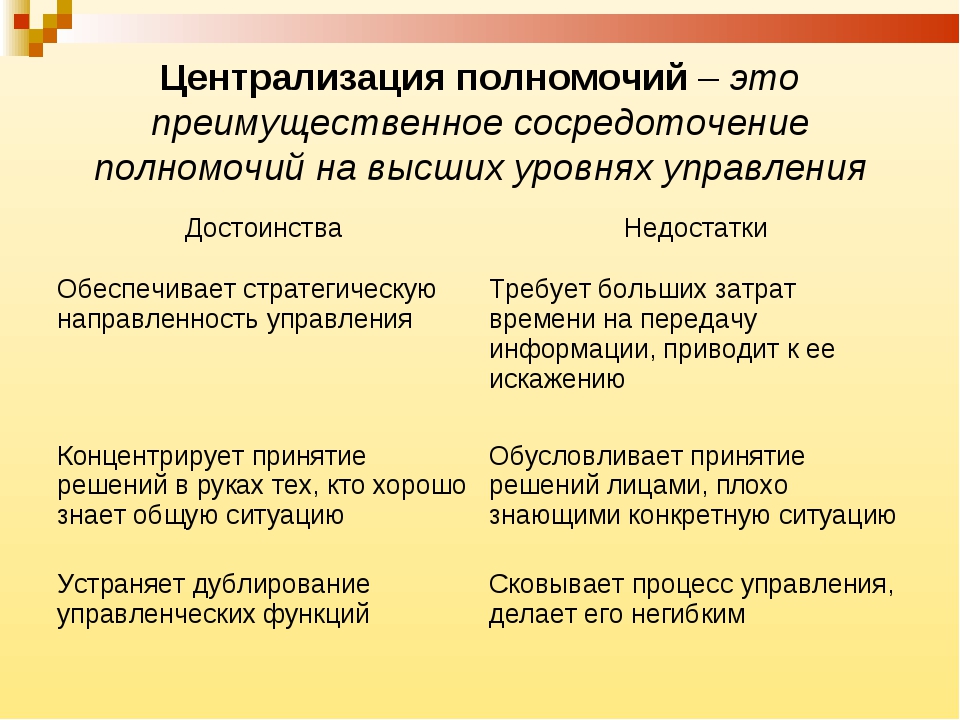
В постсоветской истории российского государства можно выделить три периода. Период непродуктивной слабости в 1990-е гг., когда государство утратило способность контролировать насилие, правопорядок и налогообложение. Затем наступил период экономически продуктивного укрепления в первой половине 2000-х гг., когда была перезапущена судебная система, усилены и поставлены под контроль правоохранительные органы, упорядочено налогообложение, возвращена способность к регулированию. Сейчас государство переживает период непродуктивной централизации и избыточного регулирования, разрушительные экономические эффекты которых до недавнего времени купировались растущими доходами от сырьевого экспорта.
Динамика государства, ведущая его к саморазрушению, видна лучше всего в сфере охраны правопорядка, здоровья, при получении образования, т. е. там, где граждане получают блага и услуги в обмен на уплаченные налоги. В ситуации 1990-х, когда государству не хватало денег на зарплаты милиционерам, врачам и преподавателям, те кормились от своих полномочий.
Нельзя не признать, что в 2000-е гг. были предприняты системные усилия по наведению порядка в государственных финансах и выполнению бюджетных обязательств. Государство начало предъявлять требования к работе тех, кому оно стало лучше платить. При этом политическая централизация, ограничение демократии, рост госкомпаний и другие хорошо наблюдаемые на макроуровне симптомы периода имели свой эквивалент и на микроуровне: бурный рост вертикальных механизмов контроля – «палочных» систем оценки по формальным критериям и размножение аппаратов контроля на нескольких уровнях. Его пик пришелся на конец нулевых.
Участковый инспектор милиции (полиции) и участковый врач – два персонажа российской действительности, которым поручена основная работа по социальному контролю и предотвращению девиаций (с точки зрения социологии болезнь – это тоже девиация). К концу нулевых для них вводятся формализованные системы оценки и над ними вырастают несколько этажей управленческих надстроек. В 2007 г. была введена система «палочной» оценки работы участковых врачей, которая включала 28 показателей типа «снижение уровня госпитализации прикрепленного населения» или «число вновь выявленных больных артериальной гипертонией» с привязанными к ним баллами (приказ Минздравсоцразвития № 282 от 19.04.2007). В МВД «палочная» система закрепилась в 2005 г. (приказ № 650) и достигла своего пика в 2010 г. с введением 72 показателей оценки органа внутренних дел (приказ № 25). Сотрудники, включая участковых, оценивались по раскрываемости и состоянию преступности (например, числу преступлений, совершенных в общественных местах), о которых они же подавали сведения наверх.
К концу нулевых для них вводятся формализованные системы оценки и над ними вырастают несколько этажей управленческих надстроек. В 2007 г. была введена система «палочной» оценки работы участковых врачей, которая включала 28 показателей типа «снижение уровня госпитализации прикрепленного населения» или «число вновь выявленных больных артериальной гипертонией» с привязанными к ним баллами (приказ Минздравсоцразвития № 282 от 19.04.2007). В МВД «палочная» система закрепилась в 2005 г. (приказ № 650) и достигла своего пика в 2010 г. с введением 72 показателей оценки органа внутренних дел (приказ № 25). Сотрудники, включая участковых, оценивались по раскрываемости и состоянию преступности (например, числу преступлений, совершенных в общественных местах), о которых они же подавали сведения наверх.
Унаследованное из 1990-х тотальное недоверие к поведению служащих привело к нагромождению механизмов отчетности. В этом отношении – кто наблюдал, знает – участковые в погонах и в белых халатах ничем не отличаются. Выполнение содержательной работы (осмотр больного или места происшествия) занимает от силы пять минут, а потом еще минут 20–30 – заполнение многочисленных бумаг. Объем бумажной отчетности рос все эти годы пропорционально росту аппарата управления, который потреблял все большую долю доходов государства. Аналогичные процессы наблюдались и в сфере образования.
Выполнение содержательной работы (осмотр больного или места происшествия) занимает от силы пять минут, а потом еще минут 20–30 – заполнение многочисленных бумаг. Объем бумажной отчетности рос все эти годы пропорционально росту аппарата управления, который потреблял все большую долю доходов государства. Аналогичные процессы наблюдались и в сфере образования.
Политика централизации управления и создания вертикальных механизмов контроля породила несколько типовых взаимосвязанных патологий.
Во-первых, ориентация работы не на результат, а на процесс и на вышестоящее начальство, которое оценивает этот процесс. Конечные потребители благ, производимых государством, выключены из процесса управления и не имеют возможности влиять на результат (могут только неформально).
Во-вторых, запретительно высокие издержки контроля: затраты на содержание управленческих аппаратов плюс издержки на создание отчетности, последняя может занимать до половины рабочего времени работника.
В-третьих, фальсификация отчетности, работа на формальные показатели, что ведет к полной потере обратной связи и реальной картины (преступности, здоровья населения, уровня образования).
В итоге централизация и усиление вертикального контроля, которые вначале служили инструментом восстановления управляемости, привели государство к утрате способности управлять чем-либо, кроме процесса отчетности. Это, в общем, понятная диалектика, возникающая в отсутствие политической конкуренции и гражданского контроля за государством. Сокращение государственных доходов обнажает эти проблемы, и сейчас мы видим меры по сокращению аппаратов и числа госслужащих. Но при неизменной системе государственного управления это будет лишь небольшая количественная динамика, с некоторым лагом повторяющая колебания цен на нефть.
Сегодня, как и в конце 1990-х, на повестку дня должна быть поставлена новая реформа государственного управления. Для ее разработки надо признать, что потенциал централизации уже несколько лет как исчерпан и что необходим поиск новых распределенных моделей управления со встроенными механизмами гражданского контроля.
Источник: Ведомости: Extra Jus
Туровский Ростислав Феликсович — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
около 80 научных публикаций, включая одну научную монографию и одно учебное пособие.
1. Югославия: социально-территориальная стратификация общества // Известия ВГО. 1991. Т. 123. Вып. 6, с. 536-544.
2. Территориальное распространение этносоциального конфликта // Вестник Московского Университета. Сер. 5, География. 1992. №2, с. 89-95.
3. Югославский разлом // Полис, 1992, №4, с. 74-84.
4. Какие пути выбирает провинция? // Российская провинция. 1993. №1 (в соавторстве с Криндачем А.Д.).
5. Российское и европейское пространства: культурно-географический подход // Известия РАН. Серия географическая. 1993. №2, с. 116-122.
6. Политические ориентации регионов России. Бюллетень агентства Postfactum. 10-16 ноября 1993 г. (в соавторстве с Колосовым В.А., Криндачем А.Д.).
7. Географические основы политической нестабильности в Югославии // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 12. М., 1993, с.125-136.
8. Социальные проблемы беженцев на территории России // Беженцы. М., 1993 (в соавторстве с Рывкиной Р. В.).
В.).
9. Политико-географическое положение России и национальные интересы государства // Кентавр, 1994, №3, с. 31-36.
10. Проблемы российской геополитики (выступление на «круглом столе») // Вестник Московского университета. Сер. 12. Социально-политические исследования. 1994, №6.
11. Политический ландшафт как категория политического анализа // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1995, №3, с. 33-44.
12. Партии в регионах России: география голосований, результаты и возможности // Вестник Московской школы политических исследований, 1995, №2, с. 125-148 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
13. Республика Коми: экономика, партии, лидеры // Власть, 1995, №10, с. 56-62.
14. Воронежская область: экономика, партии, лидеры // Власть, 1995, №11, с. 62-68.
15. Референдум по проекту конституции // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 55-62.
16. Где и какие в России партии? («партийные против «независимых» в одномандатных округах) // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 63-109.
Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 63-109.
17. Выборы в Совет Федерации // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 110-140.
18. Кампания 1995 года: региональные стратегии предвыборных блоков // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 141-190 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
19. Ядро Евразии или ее тупик? // Россия на новом рубеже. М., Апрель-85, 1995, с. 249-258.
20. Зеркало для жаждущих власти. Итоги думских выборов в одномандатных округах России и перспективы президентских выборов // Четвертая власть, 1996, №4, с. 31-39 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
21. Выборы в Государственную думу 1995 года: борьба в одномандатных округах // Власть, 1996, №5, с. 26-35 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
22. Политическое расслоение российских регионов (история и факторы формирования) // Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. Круглый стол бизнеса России. Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Серия: политология. Выпуск 3’96 (17), с. 37-52 (раздел V).
23. Электоральная карта современной России: генезис, структура и эволюция // Полис, 1996, №4, с. 33-46 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
24. Русская геополитическая традиция // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1996, №4, с. 51-64.
25. Осенне-зимние выборы глав исполнительной власти в регионах: сценарии перемен // Полис, 1997, №1, с. 97-108 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
26. Итоги губернаторских выборов // Власть, 1997, №3, с. 49-56 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
27. Социально-экономические проблемы нового российского пограничья // Известия РАН. Серия географическая. 1997, №3, с. 63-72 (в соавторстве с Колосовым В.А., Галкиной Т.А., Клесовой С.А.).
28. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Серия географическая. 1997, №5, с. 106-113 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
29. Тенденции развития политической ситуации в регионах // Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов и предпринимателей. М., Начала-пресс, 1997, раздел 4.4.3., с. 181-183.
30. Хроника одной контрреволюции: отношения “центр — регионы” в 1997-98 гг. // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.
31. Новые губернаторы России: один год у власти // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.
32. Губернаторы начинают и выигрывают? Выборы законодательных собраний в 1997 г. // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.
33. Электоральная база “партии власти” в регионах (анализ всероссийских выборов 1995-96 гг.) // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.
34. Культурные ландшафты России. М., ИКиПН, 1998.
35. Отношения “центр-регионы” в 1997-1998 гг.: между конфликтом и консенсусом // Полития, 1998, №1 (7), с. 5-32.
36. Региональная идентичность в современной России // Российское общество: становление демократических ценностей? М., Гендальф, 1999, с. 87-136.
37. Политическая география. М.-Смоленск, Издательство СГУ, 1999.
38. Выборы в одномандатных округах. // Россия накануне думских выборов 1999 года. М., Гендальф, 1999, с. 79-95.
39. Сравнительный анализ тенденций регионального развития России и Украины // Полис, 1999, №6, с. 49-61.
40. Третья попытка // Выборы, 2000, №1, с. 18-29 (в соавторстве с Буниным И.М.).
41. Парламентские выборы 1999 г.: региональные особенности // Полития, Зима 1999 – 2000, №4 (14), с. 102-121.
42. Геополитические представления в России: возвращение к истокам или поиск нового пути? // Геополитическое положение России: представления и реальность. М., Арт-Курьер, 2000, с. 14-40 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
43. Хмурое утро: геополитические перспективы России на пороге XXI века // Геополитическое положение России: представления и реальность. М., Арт-Курьер, 2000, с. 302-336 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
44. Основные итоги выборов в одномандатных округах // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 257-274.
45. Региональные стратегии кандидатов // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 498-505.
46. Позиции региональных элит // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 506-509.
47. Сдвиги в электоральной географии // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 528-534.
48. Геополитическое положение России на пороге XXI века: реалии и перспективы // Полис, 2000, №3, с. 40-60 (в соавторстве с Колосовым В.А.).
49. Региональные особенности президентских выборов 2000 г. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2000, №4, с. 38-54.
50. Основы и перспективы региональных политических исследований // Полис, 2001, №1, с. 138-156.
51. Культурная география: теоретические основания и пути развития // Культурная география. М., Институт наследия, 2001, с. 10-94.
52. Губернаторы и олигархи: история взаимоотношений // Полития, 2001, №5 (декабрь), с. 120-139.
53. Итоги и уроки губернаторских выборов // Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 2002, с. 8-43.
54. Губернаторы и «олигархи»: история отношений // Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 2002, с. 76-107.
55. Рейтинг влияния региональных лидеров России // Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 2002, с. 134-151.
56. Региональные аспекты общероссийских выборов // Второй электоральный цикл в России (1999-2000 гг.). М., Весь мир, 2002, с. 186-214.
57. Федеральные округа: политико-географический подход в теории и на практике // Федерализм, 2003, №1, с. 217-250.
58. Конфликты на уровне субъектов Федерации: типология, содержание, перспективы урегулирования // Общественные науки и современность, 2003, №6, с. 79-89.
59. Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России // Идентичность и география в современной России. СПб., Геликон Плюс, 2003, с. 139-173.
60. Баланс отношений “центр – регионы” как основа территориально-государственного строительства // МЭиМО, 2003, №12; 2004, №1.
61. Геополитическое видение мира и новая российская идентичность. // Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. М., Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, с. 113-137 (в соавторстве с Зубовым А.Б.).
62. Образы стран: связь с геополитикой новой России. // Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. М., Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, с. 238-270 (в соавторстве с Колосовым В.А., Бородулиной Н.А.).
63. Проблема централизации и модели русской региональной политики в 13-16 вв. // Полис, 2004, №1.
64. Кризис российской региональной элиты // Властные элиты современной России. Ростов-на-Дону, 2004, с 162-187.
65. Электоральные геоструктуры в западных демократиях: попытка системного компаративного анализа // Полития, 2004, №1, с. 198-232; Полития, 2004, №2, с. 200-217.
66. Разграничение компетенции между уровнями власти: международный опыт // МЭиМО, 2004, №12.
67. Структурный, ландшафтный и динамический подходы в культурной географии // Гуманитарная география, вып. 1. М., Институт Наследия, 2004, с. 120-137.
68. Русское православное подвижничество как диффузный географический процесс // Проблемы этнической географии и культурного районирования. Сборник научных статей. Под ред. А.Г.Манакова. Псков, Издательство АНО «Центр социального проектирования «Возрождение», 2004, с. 62-82.
69. Бремя пространства как политическая проблема России // Логос, 2005, №1, с. 124-171.
Публикации на иностранных языках:
1. A. Krindatsch, R. Turovskij. Die Heimkehr der Krimtataren. Ost Europa. 1992. N11. S. 1062-1067.
2. Alexej D. Krindatsch, Rostislaw F. Turowskij. Die widerspenstigen Regionen. Besteht in Ruland die Moglichkeit einer kommunistischen «Restauration» oder einer regionalen «Reconquista»? Ost Europa. 1993. N12. S. 1124-1146.
3. Rozalina Ryvkina and Rostislav Turovskij. The Refugee Crisis in . Toronto . York Lanes Press. 1993.
4. Vladimir Kolossov, Andrei Treivish, Rostislav Tourovsky. Les systemes geopolitiques d’Europe orientale et centrale vus de la Russie // Integration et desintegration en Europe. Bruxelles. 1993.
5. V.Kolossov, N.Zoubarevitch, A.Treivish, R.Tourovski. Inegalities de developpement et inegalities sociales en Russie // Les regions russes apres la crise. Paris, CFCE, 1999, p. 27-38.
6. Rostislav Turovsky. Elections in Single-Mandate Districts // Primer on ’s 1999 Duma Elections. Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1999, p. 25-32.
7. Vladimir Kolossov and Rostislav Turovsky. Russian Geopolitics at the Fin-de-siecle // Geopolitics. Volume 6. Number 1. Summer 2001. p. 141-164.
8. Vladimir Kolossov and Rostislav Turovsky. Russian Geopolitics at the Fin-de-siecle // The Changing Geopolitics of Eastern Europe . Ed. by Andrew H. Dawson and Rick Fawn. London & Portland , Frank Cass, 2002, p. 141-164.
9. Regional Aspects of National Elections in . // The 1999-2000 National Elections in . Analyses, Documents and Data. Vladimir Gel’man, Grigorii V. Golosov, Elena Meleshkina (eds.). Berlin . Edition Sigma. 2005. p. 143-165.
4.2
4.2. Российский федерализм в исторической ретроспективе
Политическая централизация, определявшая пружины российской государственности, не способствовала развитию идей федерализма на отечественной почве. В то же время в течение веков доминирующим был имперский принцип, подразумевающий многообразие вер, культур, народов и способов управления и позволяющий тем самым укреплять государственную целостность. Другое дело, что проведение этого принципа в жизнь выливалось в жесткое давление центральной власти, и со временем тенденции унификации социальной, политической и культурной жизни стали получать все более полное воплощение в исторической практике.
Абсолютизм в России вместе с тем явственно продемонстрировал свои пределы к концу XVIII в. В страну начали проникать идеи Просвещения, определенные зачатки либеральных представлений. Громадное воздействие на умы оказала Великая Французская революция, нанесшая сильнейший удар по «старому порядку» с основанными на нем династическими государствами. Именно в этих условиях, наряду с принципами свободы и равенства, в политический лексикон России стали прочно входить такие понятия, как «федерализм», «федерация», «федеративное устройство». Более того, эти понятия с самого начала переросли рамки политической философии, примерялись к российской действительности.
Уже А. Н. Радищев (1749–1802), русский писатель, философ, в своих размышлениях о будущем страны не мог обойти молчанием тему федерализма. Россию он видел как союз небольших республик, в своей политической практике опирающихся на принципы непосредственной демократии. Принцип федерализма являлся предметом тщательного анализа декабристов П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева, оценивающих его с противоположных позиций (декабристы, члены тайных обществ второй половины 1810-х–первой половины 1820-х гг., организовавшие антиправительственное восстание 14 декабря 1825 г.).
Через «искус» федерализма прошли и некоторые реформаторы из правительственного лагеря. Один из первых планов федерализации страны был предложен в России Н. Н. Новосильцевым, одним из либерально настроенных ближайших доверенных лиц императора Александра I. «Государственная Уставная грамота Российской империи», подготовленная в 1818 г., претерпела влияние идей либерального конституционализма, предусматривала разделение государства на наместничества, обладающие собственными двухпалатными сеймами и значительной внутренней автономией. Столетие спустя к федеративной идее обратился другой либеральный реформатор из правительственного лагеря – П. А. Столыпин. В целом же после императора Александра I в России на идеи федерализма в правительственной политике обращают меньше внимания. Но они достаточно отчетливо вписываются в содержание оппозиционных концепций и течений. Это – идеи славянской федерации (Н. И. Костомаров, М. П. Драгоманов, В. И. Ламанский), федерализма в русском анархизме (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин), земского федерализма (А. П. Щапов). Со временем идеи федерализма получают свое академическое воплощение, прежде всего в трудах русского юриста, правоведа, философа А. С. Ященко (1877–1934).
Динамика политического процесса тем не менее опережала теоретический поиск, и сами вопросы практического переустройства общества предстояло решать «на ходу», в сложных условиях бурного революционного времени. В практическую плоскость проблемы федерализации страны вошли сразу же после победы Февральской революции 1917 г. В сентябре 1917 г. в Киеве прошел Конгресс народов России, в котором участвовали 93 делегации, представлявшие народы и национальные движения России, за исключением поляков и финнов. Участники конгресса единодушно высказывались за преобразование России в демократическую федеративную республику. Тогда же глава Временного правительства А. Ф. Керенский заявил, что свободная Россия должна быть децентрализованной, то есть федеративной, но провозгласить ее таковой вправе лишь Учредительное собрание – представительный орган, избранный в ноябре 1917 г. и созванный в январе 1918 г. для определения государственного устройства России.
Наиболее последовательно принцип федерации проводили социалисты-революционеры (эсеры), для которых федерализм стал программной установкой еще в годы первой русской революции. Лидер партии В. М. Чернов прямо апеллировал к интернационализму Бакунина, «выразившего вековую, заветную идею нашего социализма – идею федеративного переустройства исторически сложившихся государств-левиафанов внутри, идею федерирования между собою нынешних государств вовне, идею федеративной общечеловеческой кооперации равноправных народностей, автономному культурному развитию которых должны быть обеспечены гибкие и свободные политические формы». Разносторонний мыслитель П. А. Сорокин, примыкавший в то время к эсеровской партии, именно в этот период обратился к предметной разработке проблем федерализма.
Временное правительство и входившие в правительственную коалицию партии не успели разработать программы о будущем федерации в России. Большевики противоречиво относились к федерализму. После февральской революции 1917 года большевики стояли на позициях, которые могут быть названы скорее унитарно-автономистскими, поскольку считали, что мировая революция приведет к Соединенным штатам мира как государственной форме объединения свободных наций.
Но уже в мае 1917 г. Ленин, объективно оценивая настроения широких народных масс, пришел к идее федерации народов, при котором великороссы предлагают братский союз всем народам и составление общего государства по добровольному согласию каждого отдельного народа. При этом все народы без исключения получают право решать, хотят ли они жить в отдельном государстве или в союзном государстве с кем угодно. Признание федерации как плана государственного устройства на переходный период зафиксировано в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.), заявляющей, что Россия становится Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). Позднее, когда обсуждался вопрос объединении в едином государстве частей бывшей Российской империи (России, Малороссии, Беларуси, Закавказья), развернулась борьба унитаристов (в их числе был Сталин) и федералистов, возглавляемых Лениным. Федерализм был положен в основу Договора об образовании СССР.
Этот союзный договор определял предметы ведения СССР, его верховные органы власти, утверждал обязательность декретов и постановлений Совнаркома СССР для всех союзных республик. К предметам союзного ведения отнесены международное представительство, оборона, пересмотр границ, государственная безопасность, внешняя торговля, планирование, транспорт, бюджет, связь, деньги и кредит. Конституция СССР (утверждена II съездом Советов СССР в январе 1924 г.) провозглашала союзные республики суверенными государствами, имеющими свои территорию, конституцию, гражданство, государственные органы, правовую систему.
С формальной точки зрения, СССР, таким образом, стал исключением среди федеративных государств: субъекты ни одной другой федерации никогда не получали статуса суверенного государства. На практике, однако, их декларированные права входили в противоречие с принципами демократического централизма; на его основе строились государственный аппарат СССР и правящая партия. Органы государственной власти и государственного управления образовывали единую систему при строжайшем подчинении нижестоящих органов руководства вышестоящим, поэтому акты вышестоящих органов были обязательны для нижестоящих.
Официальным был тезис, что в Советском Союзе создана новая историческая общность людей – советский народ. Действительно, исторические традиции, чувства единой исторической судьбы и т. п. во многом определяли политическую практику советской государственности. Хотя этнические группы, входившие в состав СССР, и были лишены фактического политического суверенитета, им гарантировались территориальная идентичность, различные образовательные и культурные институты на собственных национальных языках. Для многих народов были созданы национальные алфавиты и школы. Имела место существенная экономическая подпитка ранее отсталых регионов. Активно шли подготовка и выдвижение местных кадров в различных сферах деятельности (коренизация кадров).
Но настоящая федерация в СССР не утвердилась. Стержнем советской государственности оставалась монопольно правящая партия. В реальности решения при советском режиме принимались не органами, указанными в конституциях 1924, 1936 и 1977 гг., а верхними эшелонами аппарата КПСС, благодаря тому, что обладал широкими возможностями влиять на распределение должностей в органах исполнительной, законодательной и судебной властей. Все три «ветви» власти чаще всего были проводниками воли руководства КПСС. С помощью особой парламентской структуры и института – Верховного Совета (состав которого подбирался аппаратом КПСС) и правительства – Совета министров (состоящего в немалой степени из членов партии) руководство КПСС претворяло в жизнь свою волю. Во многом эта воля отражала общенациональные интересы государства. Но отсутствие разделения власти по «вертикали», присущего подлинным федерациям, приводило к тому, что «социалистический федерализм» лишь маскировал унитаризм.
Официальная идеология декларировала, что в СССР осуществлено соединение принципов «демократического централизма» с принципами социалистического федерализма, а это позволило-де полностью решить национальный вопрос, обеспечить суверенные права всех наций и одновременно согласованность и единство действий всех звеньев государственного механизма по всей стране. Фактически бюрократическая сверхцентрализация принятия решений в СССР привела к тому, что коллективные права наций на суверенитет и самоуправление не были обеспечены, местная специфика центром зачастую игнорировалась.
Аутентичные федеративные связи и отношения так и не были сформированы, и единство государства в первую очередь определялось характером КПСС, которая со временем все больше демонстрировала атрибуты не политической партии в классическом понимании, а скорее, «партии-государства». Поэтому ослабление правящей партии во второй половине 1980-х гг. объективно разрушало и важные «скрепы» советской государственности. Не случайно, отмена ст. 6 Конституции СССР, где закреплялась руководящая и направляющая роль КПСС в политической системе общества, в значительной степени стимулировала центробежные тенденции, приведшие в 1991 г. к развалу СССР.
Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централизованную систему органов (далее — органы прокуратуры) и организаций и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 233-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Органы прокуратуры:
осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами;
действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о государственной и иной специально охраняемой законом тайне;информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население о состоянии законности.
2.1. Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных.(п. 2.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 205-ФЗ)3. Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
4. Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций в органах и организациях прокуратуры не допускаются. Прокуроры в своей служебной деятельности не связаны решениями общественных объединений.
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 21.07.2014 N 233-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции
)
5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности. При этом педагогическая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Прокурорские работники не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 02.07.2013N 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Открыть полный текст документа
Шарль де Голль и модернизация Пятой республики
Официальный сайт партии «Единая Россия» продолжает публикацию доклада «Консервативные модернизации в странах «большой восьмерки», который посвящен тому, как именно в странах – лидерах мировой экономики: Германии, Франции, Японии, США и Великобритании – консервативные партии и лидеры смогли провести модернизацию.
Введение
Консервативная модернизация в Западной Германии
Консервативная модернизация: Made in Japan
Французская модернизация (1958–1968), связанная с именем генерала де Голля и ознаменованная созданием Пятой республики, с высоты сегодняшнего дня характеризуется во многом как «догоняющее» развитие, осуществленное специфическими методами – соединением либеральных программ и политической централизации страны. «Консервативная» специфика этой модернизации заключалась в том, что против – и взамен – признанного отсталым политического и социального механизма была выстроена система, которая являлась в некоторых существенных отношениях архаичной для самой Франции. Именно возвратом к старине выглядело то, что централизация власти совмещалась со значительным уплощением политического поля, устранением представлявшегося чрезмерным многообразия политических партий и их замещением пропрезидентскими партийными и квазипартийными структурами, созданием неформальных кабинетов, непосредственно подчинявшихся де Голлю и выполнявших стратегическую функцию разработки программ модернизации и их воплощения.
Генерал де Голль в этой конструкции политической системы, как отмечают некоторые исследователи, стал своего рода «парламентским монархом». Изучение истории его правления наводит на мысль, что сделать шаг вперед Франция могла только при условии возврата к собственному политическому прошлому, к непарламентским формам политической жизни. Но в действительности то, что соперники гzенерала рассматривали в качестве недемократических средств, сам де Голль, его команда и большая часть общества считали возвращением к республиканским идеалам и, главное, созданием устойчивой парадигмы развития, благодаря которой наследие Франции как национального государства могло продолжить свое существование в модернизационном проекте. По де Голлю, Франция как единая нация должна была получить более надежные политические инструменты и системы политического представительства, чем те, что имелись в распоряжении Четвертой республики с ее непрекращавшимся политическим кризисом.
Экономическая и социальная модернизация призвана была обеспечить устойчивый баланс между жестко либеральными и социалистическими направлениями развития. Государству при этом отводилась роль не столько арбитра свободных экономических сил, сколько силы, способствующей консолидации общества, планомерному развитию, повышению общего социального уровня (в том числе рабочих) и, в конечном счете, сохранению и укреплению государства всеобщего благосостояния. Таким образом, общая логика модернизации по де Голлю выглядела так: «Независимое национальное государство (идеологически связанное еще с концепцией социального католицизма) + политическая централизация (и превращение государственного механизма в механизм модернизации)+ экономическая либерализация и интернационализация».
Успех такой политики был обеспечен не только упорством самого де Голля и его команды, но и поддержкой со стороны всего общества (уже оформленного в виде устойчивого национального государства) и включением Франции в общемировые тренды долгосрочного социального и экономического развития. «Консервативные» элементы французской модернизации стали в итоге залогом как ее успеха, так и весьма неоднозначного результата, выразившегося в кризисе 1968 года.
Исторические предпосылки и условия модернизационной политики де ГолляЧасто генерала де Голля изображают политиком, для которого экономическая сфера была чем-то второстепенным. Например, ему приписывают высказывание «L«intendance suivra», которое можно перевести следующим образом: «Экономические вопросы подчиняются политическим» (буквальный перевод: «Интендантская служба прибудет позже»). Действительно, де Голль, пришедший к власти в результате политического кризиса 1958 года и общей стагнации Четвертой республики, представляется олицетворением чистой политики в ее французском варианте, предполагающей, прежде всего, умение строить эффективные союзы, находить сторонников и в итоге переформатировать все политическое пространство под себя. Но если «экономика» и являлась для Шарля де Голля простым «средством», это средство в значительной мере определило содержательные стороны его политики, поскольку экономические и социальные вопросы неизбежно оказывались в центре той широкомасштабной медиаполитики, которая во Франции началась именно с эпохи де Голля. Не могла Франция и остаться вне общемировых трендов развития.
Хотя многие факторы последующего экономического роста были сформированы уже в начале и середине 50-х годов, Франция до де Голля являлась отсталой страной, которой еще только предстояло войти в ХХ век, – именно такую модернизационную задачу ставил генерал де Голль, критикуя политику (в том числе финансовую и экономическую) Четвертой республики.
Особенности французской модернизации 60-х годов, несомненно, связаны с тем контекстом, в котором формировались экономические представления де Голля. Именно эти представления определили двойственный характер модернизации – одновременно дирижистский и либеральный.
В годы войны, как и в последовавшие сразу за Освобождением, де Голль придерживается вполне дирижистской концепции управления экономикой, необходимой, по его мнению, для вывода страны из послевоенной разрухи. Национализируются банки, страховые компании и многие промышленные предприятия, особенно те, что сотрудничали с оккупационными властями, такие, например, как «Рено». Также национализируется единая энергетическая компания «Электрисите де Франс». 3 января 1946 года принимается первый Экономический план, фиксирующий главные экономические цели и способы их достижения.
Однако эти меры понимаются как вынужденные. На экономические воззрения де Голля значительное влияние оказали взгляды Рэймона Пуанкаре, одного из президентов Третьей республики, и либеральные экономические теории 30-х годов. Находясь в оппозиции с 1947 года, де Голль активизирует именно свой либеральный бэкграунд, критикуя ту политико-экономическую систему, которая в рамках Четвертой республики привела к восстановлению государства-гаранта и государства – защитника собственных граждан, породив тем самым патернализм и экономические проблемы: постоянный рост инфляции, недостаток инвестиций, увеличение государственного долга, износ основных фондов. При этом сам де Голль никогда не был «либералом» в строгом смысле слова и довольно часто выступал с критикой либеральной политики laissez-faire и laissez-passer. Тот факт, что в период своего президентства де Голль не отказывался от экономических «планов» (напротив, Общий комиссариат планирования, Commissariat g?n?ral au plan, становится важнейшим органом управления всей административной системой), отсылает к глубоким идеологическим основаниям его политики, в которой крайности капитализма и социализма, как предполагалось, должны уравновешиваться деятельностью государства. Своеобразное сочетание дирижизма и стимулирования «духа предпринимательства» – основная черта политики де Голля, особенно в экономической сфере.
Объективно социально-экономическое наследие Четвертой республики, с которым пришлось иметь дело де Голлю, не было настолько негативным, как это часто изображалось голлистами. В период 1949–1957 годов Франция прошла через экономический рост, вписавшись в общеевропейскую динамику. Правда, ее развитие было не столь интенсивным, как в других европейских странах. В 1949 году по ВВП и уровню заработной платы Франция достигла собственного уровня 1930 года. Устойчивый рост продолжался до 1957 года. Рост промышленного производства составил в эти годы в среднем 9,4%, сельскохозяйственного – 3,3%. С 1950-го по 1957 год рост ВВП Франции составлял в среднем 4,6% в год (для сравнения: в Германии в эти годы – 8,3%, в Италии – 6%). Однако уже в это время во Франции наблюдался недостаток инвестиций: доля валового накопления основного капитала в ВВП за период 1949–1954 годов упала с 19,5 до 17,9% и, даже поднявшись к 1957 году до 20,5%, отставала от аналогичных показателей таких стран, как Германия (22,3%) или Нидерланды (25,6%). К 1957 году производственные мощности использовались почти на 100%, что вызвало рост цен, а в сочетании с политикой индексирования зарплат это лишь усилило инфляцию и привело к внешнеторговым дисбалансам: внешний долг Франции к 1957 году по отношению к ВВП составлял около 31%, бюджетный дефицит – около 5% . Вплоть до 1956 года Франция пользовалась внешнеэкономической поддержкой со стороны США (причем не только в рамках Плана Маршалла), составлявшей порядка 4 млрд долларов в год, однако после ее прекращения дефицит платежного баланса составил в 1957 году 2,4% ВВП.
Социально-политическая структура по де Голлю подразумевала возвращение к ситуации 30-х годов, т.е. сохранение «Франции мелких буржуа» (France des petits), Франции мелкокрестьянского хозяйства. Негативом этой Франции являлась Франция профсоюзов, социальных гарантий и довольно сложной политической системы, весьма уязвимой для парламентских и партийных кризисов. Препятствием к осуществлению деголлевских планов могла стать и колониальная система. Ее фактическое сохранение (с соответствующими системами протекционизма, таможенных налогов, монополизации отдельных сфер производства и услуг) сделало экономический рост Франции 50-х достаточно эфемерным явлением, обретавшим плоть разве что в общеевропейских процессах послевоенного восстановления. Как заметил де Голль, первым делом в 1958 году он столкнулся с «пустой казной», с которой надо было что-то делать.
Модернизации по де Голлю предстояло решить существенный комплекс задач:
— стабилизировать и интенсифицировать экономическое развитие и снять его внутренние пределы, заданные сохранением архаической мелкобуржуазной и сельскохозяйственной экономики, не позволявшей поднять уровень внутреннего инвестирования;
— привлечь иностранные капиталы и осуществить реальную индустриализацию;
— демонтировать остатки колониальной системы, фактически сохранявшей во Франции элементы «имперского» фискального и товарного уклада и отделявшей страну от общеевропейского окружения;
— создать новый общественный консенсус, структурированный обновленным республиканским идеалом, развитием общества потребления и индивидуального успеха.
Возвращение де Голля в политику в 1958 году, принятие в том же году конституции Пятой республики и референдум 1962 года, одобривший процедуру выборов президента всеобщим голосованием, обеспечили радикальное изменение политической системы Франции. Разделение властей, отстаиваемое де Голлем, предполагало резкое увеличение роли президента в политическом раскладе сил, в том числе и устранение традиционной «диархии» президента и премьер-министра. После 1962 года президент республики становится непосредственным олицетворением государства, власть которого проистекает из стихии народного волеизъявления. Парламент был ограничен в возможностях контролировать исполнительную власть, чему способствовало преобразование партийной системы.
Сложившаяся к 1958 году голлистская партия «Союз за новую республику» (Union pour la nouvelle R?publique, UNR), исходно составленная не столько из отдельных элитных групп, сколько из людей, верных лично де Голлю, в соответствии с амбициями генерала мыслила себя не традиционной идеологической партией, а скорее своеобразной «антипартией». Ее цель – объединить французов вокруг нового главы государства и, соответственно, получить наибольшее число мест в парламенте, сделав последний инструментом политической воли генерала де Голля. «Союз» становится «пехотой генерала», однако сам де Голль занимает дистанцированную позицию по отношению к «собственной» партии, что обеспечит в будущем возможность создания новых голлистских движений (так, в 1962 году Андре Мальро создает «Ассоциацию за Пятую республику»). Личная преданность де Голлю и превращение «Союза» в избирательно-кадровый механизм не предотвращают, однако, идеологических расхождений внутри партии. Тем не менее «Союз», включивший в себя некоторые другие политические партии, например «Демократический союз труда» (UDT), сумел стать реальной партией власти, аккумулировавшей позитивный модернизационный образ, транслировавшийся на всю Францию. В результате к 1968 году партия со своими союзниками (преобразовавшись в «Союз демократов за Пятую республику») собирает до 46% голосов, приближаясь к абсолютному большинству мест в парламенте. Все это на несколько лет обеспечило слаженную работу всех ветвей власти, т.е. де-факто преобладание президентского курса, распространявшееся в первую очередь на кабинет министров, в который де Голль стал набирать все больше технических специалистов вместо политиков.
Следствием создания «партии большинства» и выстраивания президентской власти стало полное крушение старой партийной системы, повлекшее значительные изменения всего политического поля в целом. Успех новой политики де Голля в отношении французской колонии Алжир фактически обрек на небытие старых правых. Консолидация «через образ врага», выполненная коммунистами, позволила им сохранить свои позиции в достаточно сложных условиях (кризис в Венгрии и развенчание культа личности Сталина в СССР). Однако так называемые радикальные партии (на деле левоцентристские), а также некоммунистические левые и социалисты вошли в период длительных пертурбаций, пытаясь, с незначительными успехами, создать межпартийные коалиции. Партия власти, ставшая публичным проводником идей исполнительной власти, благодаря привязке к фигуре де Голля и отказу от примата идеологии сама оказалась выключенной из партийной эволюции Франции и, что еще важнее, создала пространство для «несистемной» оппозиции, т.е. стихийного включения в протестные движения групп населения, не связанных с традиционными партийными механизмами. Однако французская модернизация, ставшая ядром «Славного тридцатилетия», не могла осуществиться без жесткой либерально-государственной политики, взятой на вооружение де Голлем и его правительством.
Вопрос элит и модернизация государственной службыВ действительности даже самые серьезные политические реформы, осуществленные де Голлем, мало что решали бы без изменения и перераспределения в административно-управленческом поле, традиционно весьма сильном во Франции. Государственные управленческие элиты составляли во Франции Третьей и Четвертой республик верхушку социальных элит в целом, определяя главенствующее положение так называемых grands corps de l»Etat, высших органов управления и судебной системы (к ним относятся Государственный совет, Счетная палата, Общая инспекция финансов, Общая инспекция социальных дел, Общая инспекция управления). Сам статус «grand corps d’Etat» является предметом конкуренции в государственной сфере – например, на него с некоторым основанием могло претендовать Управление государственными рудниками (les Mines). С XIX века предпринимались попытки реформировать бюрократические структуры, в особенности grands corps, – противодействуя потенциальным тенденциям корпоративизации, противоречащим духу республиканизма и Французской революции. Главное же, эти многолетние реформы подготовили создание института государственного функционера, выделив основное звено управления этим институтом и его преобразования, а именно систему образования/конкурса/назначения функционеров высшего и среднего звена.
С 1872 года основным поставщиком высших управленческих кадров была Свободная школа политических наук (Ecole libre des sciences politiques), элитарный характер которой, однако, постоянно вызывал нарекания. Проект более управляемой, унифицированной и в то же время более демократичной Национальной школы управления (Ecole national d’administration, ENA) был предложен Жаном Зэ в 1936 году, но реализован он был только в октябре 1945 года генералом де Голлем и Мишелем Дебре. Проект Дебре предусматривал создание новой системы формирования корпуса чиновников, необходимой для восстанавливающейся республики и ее правительства. Таким образом, только с 1945 года французское государство стало обеспечивать унифицированное обучение чиновников. Открытие ENA было осуществлено в рамках работы Временной комиссии по административной реформе при временном правительстве Франции. Именно эта комиссия под руководством Мориса Тореза заложила основания административной реформы. Несмотря на то, что в 1946 году де Голль отправился в политическое изгнание, Национальная школа управления стала его важнейшим козырем в модернизации и в выстраивании отношений с национальными элитами.
По отношению к последним де Голль занимал критическую позицию, называя большую часть старой элиты «предателями». Поэтому создание нового слоя высших функционеров, которым можно поручить задачи модернизации и которые воплощают в себе принцип публичного государственного служения, явилось первоочередной задачей для де Голля конца 50-х годов. Именно она и была решена за счет ENA и административной реформы, локомотивом которой стала Школа управления.
Сам де Голль рассматривал ENA в качестве «рассадника будущих государственных служащих» и «основания нового государства», призванного рационализировать систему подбора кадров, которая ранее отличалась непрозрачностью и плодила коррупционеров. По де Голлю, национального могущества способно добиться только государство, имеющее в своей основе независимую и сильную экономику, а для этого требуется, чтобы государство перестало быть «случайным соединением частных интересов». 17 ноября 1959 года де Голль произнес речь перед учащимися ENA, в которой зафиксировал принципы прозрачного, справедливого и конкурентного отбора государственных служащих и заявил, что высшая цель будущих функционеров всецело определяется «национальным интересом». Он также дал понять, каким видит будущее своих молодых слушателей: «Те, кому суждено служить государству, должны стать новой элитой, элитой во всех своих качествах, интеллектуальной элитой и моральной». Административная реформа, таким образом, прежде всего служила цели унификации государственного управления в контексте экономической, политической и социальной модернизации, но одновременно она позволяла обезопасить модернизационную программу от противодействия старых элит и бюрократических корпусов.
За выступлением де Голля в ENA последовала публикация «Доклада о препятствиях экономическому развитию» Рюэффа–Армана (июль 1960), в котором была отмечена неэффективность имевшихся государственных структур. Доклад и его поддержка де Голлем запустили новый этап административной реформы, на котором главным критерием становилась именно «эффективность». Реформа некоторых grands corps de l’Etat, прежде всего Госсовета (выполненная в рамках общей политической реформы), опиравшаяся на уже развернутую систему отбора, обучения и габилитации чиновников, центром которой выступила ENA, позволила Франции начать эпохальную экономическую модернизацию, не отказываясь от программы «государства всеобщего благосостояния», а развивая ее. Модернизация де Голля вошла в историю как период становления государства «энархов», т.е. выходцев из Ecole national d’administration, не только центрировавших на себе все государственные службы, но и ставших главным резервом высших политических кадров.
Экономическая повестка голлистской модернизации: план Пинэ–РюэффаНеоднозначность наследия Четвертой республики, выразившаяся в экономических, финансовых и политических дисбалансах, потребовала от де Голля ряда неотложных мер, проводником которых стал Антуан Пинэ в роли министра финансов. Пинэ не был идеологом реформ, скорее, он выполнял функцию «гаранта мелких собственников» и инструмента краткосрочного финансового оздоровления. Для наполнения государственной казны Пинэ объявил в июне 1958 года о внутригосударственном займе, успешность которого свидетельствовала об убедительности тандема Пинэ – де Голль. Государство заявило о необходимости проведения жестких финансовых процедур, которые включали рост налогов на коммерческие предприятия, повышение цен на бензин, увеличение жалованья чиновников и цен на сельхозпродукцию, ограничение субсидий и кредитования. Но эти краткосрочные меры позволили лишь залатать бреши в финансовой системе Франции.
Для решения вопроса стратегического развития и модернизации де Голль кооптировал в свою команду подлинного идеолога будущей либерализации – экономиста либерального направления, одного из членов основанного Людвигом фон Мизесом «Общества Монт-Пелерин» Жака Рюэффа, бывшего некогда советником Рэймона Пуанкаре. К декабрю 1958 года Рюэфф разработал план, который послужил базисом для дальнейшего экономического роста. Он включал несколько составляющих.
1. Борьба с инфляцией: инфляция признается тем фактором, который понижает позиции Франции на международных рынках. Бюджет государства урезается, ежегодное повышение зарплат чиновников и служащих ограничивается 4%, уменьшаются субсидии национализированному сектору экономики. Государственные ресурсы пополняются за счет повышения налогов, акцизов на алкоголь и табак, общего повышения тарифов на газ, электричество, транспорт и т.д. Все ставшие привычными для Четвертой республики индексации, за исключением межпрофессионального минимума зарплаты роста (SMIC), замораживаются.
2. Монетарная политика: ее цель – создание «твердого», т.е. свободно конвертируемого, франка. За 17,5-процентной девальвацией следует деноминация в соотношении 1:100. Франк становится такой же твердой валютой, как швейцарский франк или дойчемарка.
3. Либерализация рынка – наиболее важный момент, следующий за подписанием Францией Римского договора (1957) и официальным созданием Европейского экономического сообщества, или Общего рынка. Франция отказывается от значительной доли протекционистских мер и таможенных пошлин. К 1960 году либерализировано около 90% сделок с европейскими странами, а также 50% сделок в зоне доллара.
План Рюэффа позволил осуществить уже намеченную в период Четвертой республики масштабную модернизацию французского общества и экономики, создав условия для изменений, руководимых логикой «этатистского либерализма», уравновесившей либеральные реформы политикой «participation», т.е. развитием ассоциации «капитала» и «труда» и систем более справедливого распределения доходов в рамках укрупняющихся промышленных предприятий. В итоге всех этих мер Франция сумела вернуть себе статус одной из наиболее передовых стран мира.
Основные моменты французской модернизации 60-хСочетание политического курса де Голля, либерально-экономической программы Рюэффа и традиционных для Франции этатистских механизмов определило как сильные стороны, так и слабости французской модернизации 60-х годов, позволившей Франции вписаться в общемировой тренд экономического роста. Экономический рост страны в 1959–1970 годах достигал в среднем 5,8% в год (в этот период Францию опережала только Япония).
Основополагающую роль для экономического подъема Франции сыграли интернационализация ее экономики и корректное использование государственных мер, поддерживаемое значительным государственным сектором. От Четвертой республики де Голлю достался внушительный аппарат статистики и госуправления (Комиссариат плана, Комиссия экономического учета и бюджета нации, Национальный институт статистики и экономических исследований – INSEE). Государственные предприятия позволяли осуществлять планирование экономики, которое, однако, не стремилось вытеснить либеральные механизмы регулирования. Промежуточный план 1960–1961 годов предполагал меры по выходу страны из финансового кризиса. Программа Рюэффа в значительной степени определила IV План на 1962–1965 годы, ставший Планом роста (5,5% ВВП в год). В этот период экономические и финансовые власти ставят задачу повышения конкурентоспособности французской экономики, а также постепенного снижения роли государства: доля государственных инвестиций в эти годы постепенно уменьшается, но общий рост инвестиций (в 1960–1974 годы – примерно 7,7%) обгоняет рост производства и в 1969 году составляет 25% ВВП. Интернационализация экономики приводит к тому, что к 1970 году доля экспорта в ВВП Франции достигает 17% (в 1958 году – менее 10%), 50% покупателей относятся к зоне общеевропейского рынка. Европа занимает место колоний, бывших ранее наиболее важным коммерческим партнером Франции, что повышает требования к французской экономике. Ответом де Голля и его команды является политика благоприятствования созданию крупных финансовых и промышленных групп, способных выдержать международную конкуренцию.
Промышленная модернизация 60-х годов становится поэтому эпохой концентрации и даже монополизации производства. Промышленное предприятие оказывается главным агентом модернизации, однако, как предполагает государственная политика, изменить отношение к производству и конкуренции в рамках мелких предприятий невозможно. В 1959–1965 годы среднее число слияний промышленных предприятий в год достигает 74, в 1966–1972 годах эта цифра вырастает до 136. Все секторы экономики проходят через концентрацию ресурсов. В банковской сфере путем слияния двух крупнейших банков образуется национализированный Национальный банк Парижа, в инвестиционной сфере главнейшую роль играют банки группы Suez и Paribas, сельское хозяйство обслуживает Cr?dit agricole. Практически во всех остальных сферах экономическая жизнь также распределяется между фирмами-гигантами. Так, к 1971 году 86% производства цемента Франции контролируется тремя группами; химическая промышленность также поделена между тремя группами международного уровня. В автомобилестроении доминируют четыре производителя: «Рено», «Ситроен», «Пежо» и «Симка». В высокотехнологичных областях государство непосредственно руководит слиянием предприятий и финансирует отдельные программы: так образуется авиационная группа SNIAS или группа электронной промышленности CII. Принятый на 1968–1971 годы Экономический план позволил завершить эту линию развития в таких областях, как космонавтика, кораблестроение, информатика. К 1973 году доля внутреннего производства в ВВП достигает 28,3% (в 50-е годы – 20%).
Рост производства в значительной степени обусловлен ростом потребления – именно в эти годы во Франции складывается классическое «общество потребления». В 1963 году открылся первый супермаркет Carrefour. В 1959–1973 годах расходы домохозяйств растут примерно на 4,5% в год, постепенно французы отказываются от стиля жизни «мелких буржуа», ценящих сбережения (которые растут гораздо более медленными темпами). Франция бросается тратить.
Огромный рост в период голлистской модернизации дал третий сектор, т.е. сфера услуг, в котором к концу 60-х годов занято до 50% трудоспособного населения Франции (и 66% женщин). Три четверти новых рабочих мест создается именно в этой сфере – прежде всего в банках, страховых компаниях, затем в телекоммуникациях, торговле и на транспорте. К концу 60-х годов третий сектор дает более 50% ВВП.
Пределы голлистской модернизации и ее негативные последствияК началу 70-х годов Франция сумела пройти через эпохальный модернизационный период, который не только выявил некоторые структурные пределы роста, но и создал определенные негативные эффекты, оказавшиеся весьма влиятельными как в политическом, так и в экономическом отношении.
Открытость экономики и ее интернационализация привели, прежде всего, к укрупнению сельскохозяйственных предприятий и, соответственно, к сокращению сельского населения в целом. К началу 70-х годов его численность (по сравнению с 50-ми) упала с 7 до 3 млн. Общий рост сельскохозяйственной производительности не компенсирует тот факт, что в годы голлистской республики аграрное производство растет в два раза медленнее, чем промышленное, так что к 1974 году оно составляет лишь 5% ВВП. Внутренний сельскохозяйственный рынок быстро насыщается, а спрос на внешнем рынке недостаточен для того, чтобы интенсифицировать сельскохозяйственное производство. В результате наступает стагнация, порождая значительный приток населения в крупные города и волнения крестьян в 1960–1961 годы. Политика укрупнения сельхозпредприятий вызывает социальные и культурные потрясения, однако ее последствия необратимы.
Одним из существенных пределов роста становится региональный дисбаланс: усиление демографического и экономического неравенства между отдельными городами, регионами и целыми географическими зонами Франции. Население в северо-восточных регионах растет гораздо быстрее, чем в юго-западных. Усиливается процесс урбанизации: к 70-м годам в городах проживает около трех четвертей всего населения; правительство предпринимает значительные усилия, чтобы сдержать рост Парижа, при этом развивая города, расположенные в 100–200 км от столицы. Все эти явления, а также опустошение сельских регионов заставляют правительство принять ряд мер, которые, однако, оказываются недостаточными.
Другой внутренней проблемой модернизации стал рост инфляции. Его частичное торможение в результате применения плана Пинэ–Рюэффа оказалось краткосрочным, уже с 1961 года потребности производства в рабочей силе запускают механизм повышения заработной платы и, соответственно, инфляционный процесс, который также разогревается возвращением в 1961–1962 годах 700 000 репатриантов из Алжира. Несмотря на введение в действие принятого в 1963 году Плана стабилизации, французское правительство так и не смогло найти точку равновесия между «здоровой» инфляцией развивающейся экономики и инфляционными рисками, которые усилились после того, как кризис 1968 года ослабил действие принятых ранее дефляционных мер, направленных против «перегрева» экономики.
Общесоциальным пределом модернизации становится расслоение общества между стратами, составлявшими «костяк» модернизации, и теми, кто в итоге модернизации посчитали себя «проигравшими». К числу последних относятся не только бывшие крестьяне или мелкие лавочники, но, по существу, огромное количество владельцев мелких предприятий, торговцев, мелких буржуа, некоторые слои государственных служащих, преподаватели, а также рабочие. Экономика Франции не стала абсолютно централизованной и монополизированной: так, в промышленности к 1971 году из 617 000 предприятий в 540 000 менее 10 наемных сотрудников, а в 58 000 – от 10 до 50. При этом основной груз экономического роста и международной конкуренции лег на промышленных гигантов, которые, однако, также не достигли особых высот (лучшая французская компания «Рено» занимала лишь 22-е место в рейтинге мировых автомобилестроительных предприятий). Старые социально-политические структуры Франции оказывали мощное сопротивление собственной инерционностью.
Формирование общества потребления и внедрение американских экономических и социальных стандартов привели к фрустрации у части общества – той, которой новые стандарты потребления в условиях быстрой инфляции оказались недоступными. Размывание традиционных слоев крестьянства, ремесленничества и торговцев, т.е. памятной «Франции мелких буржуа», накладывалось на значительное ослабление институциональной политической оппозиции, которая в условиях господства «партии власти» заботилась прежде всего о собственном выживании. По сути, политическая рамка голлистской модернизации подготовила почву для численного роста и повышения публичного авторитета внесистемной оппозиции. Последняя же показала всю свою мощь во время студенческой революции 1968 года.
Доклад подготовлен при участии руководителя Политического управления Политического департамента ЦИК партии «Единая Россия» Олега Игнатова.
Перейти к основному содержанию ПоискПоиск
- Где угодно
Поиск Поиск
Расширенный поиск- Войти | регистр
- Подписка / продление
- Учреждения
- Индивидуальные подписки
- Индивидуальные продления
- Библиотекари
- Тарифы, заказы и платежи
- Пакет Чикаго
- Полный цикл и охват содержимого
- Файлы KBART и RSS-каналы
- Разрешения и перепечатки
- Инициатива развивающихся стран Чикаго
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы библиотекарей
- Агенты
- Тарифы, заказы, и платежи
- Полный пакет Chicago
- Полный охват и содержание
- Даты отправки и претензии
- Часто задаваемые вопросы агента
- Партнеры по издательству
- О нас
- Публикуйте с нами
- Недавно приобретенные журналы
- Издательская часть tners
- Новости прессы
- Подпишитесь на уведомления eTOC
- Пресс-релизы
- Медиа
- Книги издательства Чикагского университета
- Распределительный центр в Чикаго
- Чикагский университет
- Положения и условия
- Заявление о публикационной этике
- Уведомление о конфиденциальности
- Доступность Chicago Journals
- Доступность университета
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
- Свяжитесь с нами
- Медиа и рекламные запросы
- Открытый доступ в Чикаго
- Следуйте за нами на facebook
- Следуйте за нами в Twitter
Эффект политической повестки дня и государственная централизация
Основные моменты
- •
Государственная централизация, институциональная и элитная координация в различных регионах и сегментах общества имеют решающее значение для эффективного предоставления общественных благ, налогообложения и регулирования.
- •
Элиты могут воздерживаться от централизации государственных институтов, потому что они обеспокоены вытекающим из этого изменением в политической повестке дня неэлит, которое подталкивает их к более эффективным требованиям общих интересов.
- •
Централизованные государства и общественные блага, которые они приносят, могут отсутствовать именно тогда, когда они более полезны для общества.
- •
Формирование социал-демократической партии может способствовать государственной централизации путем координации общих требований граждан, даже при отсутствии государственной централизации, тем самым снимая с элиты большую часть затрат на централизацию государства.
Abstract
Мы даем возможное объяснение, основанное на «эффекте политической повестки дня», отсутствию и нежеланию создавать централизованную власть в руках национального государства. Государственная централизация побуждает граждан разного происхождения, интересов, регионов или этнических групп координировать свои требования в направлении более общих общественных благ, а не ограниченных перемещений. Этот эффект политической повестки дня повышает эффективность требований граждан и побуждает их увеличивать свои вложения в конфликтную способность.В отсутствие государственной централизации граждане не обязательно объединяются из-за другой силы, эффекта эскалации, который относится к тому факту, что элиты из разных регионов объединят свои силы в ответ на действия граждан. Такая эскалация может нанести ущерб группам граждан, которые уже решили свою проблему коллективных действий (хотя это принесет пользу другим). Предвидя взаимодействие политической повестки дня и эффектов эскалации, при некоторых конфигурациях параметров политические элиты стратегически выбирают нецентрализованное государство.Мы показываем, как модель генерирует немонотонную сравнительную статику в ответ на увеличение ценности или эффективности общественных благ (так что централизованное государство и обеспечение общественного блага могут отсутствовать именно тогда, когда они более выгодны для общества). Мы также предполагаем, как формирование социал-демократической партии может иногда вызывать централизацию государства (устраняя ценность приверженности нецентрализованного государства), и как элиты могут иногда предпочитать частичную централизацию государства.
Ключевые слова
Конфликт
Эффект эскалации
Эффект политической повестки
Обеспечение общественного блага
Государственная дееспособность
Государственная централизация
Статьи классификации JEL
D70
C h21
0003 Рекомендуемые статьи (P48 9000)© 2020 Авторы.Опубликовано Elsevier Inc. от имени Ассоциации сравнительных экономических исследований.
Рекомендуемые статьи
Цитирование статей
Централизация и народный контроль, Источник: Рост и упадок конституционного правительства, Дж. Аллен Смит, 1930
«Отношение состоятельных классов к местному самоуправлению. на правительство оказало сильное влияние расширение избирательного права… отмена имущественных ценностей имела тенденцию лишать старый правящий класс его контроля над местными делами.После этого владельцы собственности с недоверием относились к местным властям, в которых их было меньше, чем голосов, получивших избирательные права. Тот факт, что они, возможно, в значительной степени верили в местное самоуправление, когда существовали соответствующие ограничения права голоса и занимать государственные должности, не мешал им выступать за усиление государственного контроля после принятия избирательного права для мужчин. ”
Источник: Дж. Аллен Смит «Рост и упадок конституционного правительства», 1930 г.
Глава IX — Централизация и народный контроль
Централизованный контроль в США развивался быстрыми темпами, особенно после Гражданской войны.Менее чем за полтора века группа слабо организованных сообществ объединилась в то, что по сути является национальным государством. Это было достигнуто в основном за счет федерального контроля над властью по толкованию конституции. … Первоначальная борьба между сторонниками и противниками централизации была связана с правом федерального Верховного суда выступать в качестве окончательного толкователя Конституции Соединенных Штатов. Приобретение этой власти федеральной судебной властью сделало общее правительство верховным.С тех пор он определил свой авторитет, а также авторитет штатов. Таким образом, была заложена основа для принятия на себя полномочий федеральным правительством, которое могло со временем лишить местные подразделения всякой власти и сделать общее правительство национальным во всем, кроме имени. Этот процесс централизации замедлился в первой половине девятнадцатого века из-за настроений государств в отношении прав человека; но после Гражданской войны произошло заметное ускорение роста федеральной власти.
Есть два способа, которыми суды способствовали централизации политической власти в руках сектора государственного управления. И то, и другое зависит от права Верховного суда выступать в качестве окончательного толкователя федеральной конституции. Посредством простого процесса толкования Суд закрепил в Конституции более широкие полномочия, предоставленные сектору государственного управления, чем это первоначально предполагалось или ранее признавалось как должным образом принадлежащее ему. Таким образом, произошло значительное усиление федеральной власти.Другой способ, которым судебная власть способствовала росту федеральной власти за счет государства, было косвенным и, несомненно, часто непреднамеренным. Конституция отказывает штатам в определенных полномочиях, как в положении о законах, «ограничивающих обязательства по контрактам», и в Четырнадцатой поправке. Из-за толкования, которое судебная ветвь федерального правительства дала этому положению, власть штатов как регулирующих и защитных агентств была серьезно подорвана.Более того, лишая правительства штатов власти принимать столь срочно необходимые законы, Суд вынудил людей обратиться к правительству за помощью. Непосредственной целью этого ограничения государственной власти судебным толкованием, вероятно, в большинстве случаев было предотвращение предполагаемого регулирования; но конечным результатом этого ограничения полномочий штатов стало компенсирующее усиление регулирующих полномочий федерального правительства. Люди, которым мешают обеспечить адекватное государственное регулирование, обратились за защитой к правительству, поскольку его полномочия не ограничиваются Четырнадцатой поправкой или конституционным положением, касающимся законов, «нарушающих договорные обязательства.”
Есть еще один аспект движения к централизации, который связан с отношениями между государством и местным правительством. Подобно тому, как сектор государственного управления в последние десятилетия быстро расширял свои полномочия за счет штатов, так и сами штаты отбирали все больше и больше власти у чисто местных правительственных единиц.
В целом консерваторы предпочитают централизованную форму правления, в то время как те, кто верит в народный контроль, хотят сохранить политическую власть в основном в руках местных властей.Так было даже в начале нашей конституционной истории. Для Джефферсона с его демократической точкой зрения было совершенно логично стремиться к слабому генералу и сильному местному правительству, как и для Гамильтона с его ярко выраженной аристократической предвзятостью быть апостолом централизации.
Либеральная политическая философия восемнадцатого века принципиально противостояла централизованному контролю. Сама суть философии — доктрина свободы личности — могла быть согласована только с децентрализованной формой правления.Вера в самоопределение индивида основывалась на предположении, что он может лучше судить о своих интересах и потребностях, чем какой-либо внешний авторитет. Теория индивидуальной свободы признавала, что в любом правильно организованном обществе самоопределение подвергалось определенным ограничениям и ограничениям, налагаемым в интересах общего блага. Но при выборе правительственных агентств для защиты общества от злоупотреблений личной свободой принцип самоопределения требовал, чтобы политическая власть никогда не отделялась от тех, кого она затрагивает, дальше, чем это необходимо в той степени, в которой вовлеченные интересы.Согласно этому принципу, местное правительство должно иметь столько власти, а центральное правительство — настолько мало, насколько это может быть совместимо с защитой интересов общества в целом. Коллективное определение со стороны государственных органов будет тогда осуществляться таким образом, чтобы человек имел максимально возможное влияние при наложении необходимых ограничений на его свободу. Централизация политической власти поставила бы под угрозу свободу личности, передав всю власть тем правительственным органам, которые наиболее удалены от эффективного контроля.
Противники народного контроля не всегда были за централизованное правительство. Интеллигентные консерваторы в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века могли и многие верили в значительную децентрализацию. Фактически, основная причина консервативного отстаивания централизации в настоящее время неприменима в условиях, которые существовали тогда. Местное самоуправление тогда не было в руках большинства населения. Избирательное и служебное право того времени было достаточной гарантией преобладания имущественного класса в местных делах.И поскольку большинство населения фактически подчинялось местным властям, централизованная правительственная организация не была необходима для защиты прав собственности. Более того, в первой половине девятнадцатого века существование рабства на Юге сделало эту часть страны очевидной в своей поддержке государства, а не центральной власти. Однако упор на права штатов на Юге в период до Гражданской войны был обусловлен не столько верой в теорию децентрализованного управления, сколько опасением, что федеральная власть может недостаточно представлять интересы рабовладельцев.
При росте правительственных систем распределение полномочий между центральными и местными властями, скорее всего, будет определяться целесообразностью, чем стремлением к логической последовательности. Практика может быть и, конечно, часто определяется теорией, но когда интересы господствующего класса не могут быть согласованы с общепринятыми доктринами, теория обязательно уступит место практическим соображениям.
Ранний либеральный взгляд, который связывал личную свободу и адекватное народное ограничение политической власти с децентрализованным типом политической организации, больше не является преобладающим.Люди все больше и больше соглашаются с точкой зрения, подразумеваемой централизацией политической власти. Ряд факторов, объединившихся, чтобы вызвать это изменение отношения, главным из которых было желание более консервативных классов защитить страну, насколько это возможно, от предполагаемых опасностей демократии, устраняя политические дела, насколько это возможно. от опасности народного контроля.
На отношение зажиточных классов к местному самоуправлению большое влияние оказало расширение избирательного права… снятие имущественных ценностей имело тенденцию лишать старый правящий класс его контроля над местными делами.После этого владельцы собственности с недоверием относились к местным властям, в которых их было меньше, чем голосов, получивших избирательные права. Тот факт, что они, возможно, в значительной степени верили в местное самоуправление, когда существовали соответствующие ограничения права голоса и занимать государственные должности, не мешал им выступать за усиление государственного контроля после принятия избирательного права для мужчин.
Американская юридическая теория с самого начала нашей истории как нации отражала точку зрения о том, что законодательный орган штата является источником всех законодательных полномочий как штата, так и местных, и что все местные полномочия предоставляются законодательным органом и могут быть отозваны по желанию.Согласно этой концепции, местное самоуправление является порождением правительства штата и, за исключением прав, предоставленных конституцией штата, обязано своим существованием и своими полномочиями законодательному собранию штата. Такой взгляд на полномочия законодательного собрания штата был, конечно, просто применением правительством штата английской теории парламентского превосходства. После расширения избирательного права влияние этой теории на местное самоуправление было дополнено судебным страхом перед последствиями местной демократии.Мало того, что вся законодательная власть была централизована в правительстве штата, но и усилия по ее децентрализации путем внесения поправок в конституцию были в значительной степени сведены на нет из-за враждебного судебного толкования. Фактически, наши государственные суды упорно выступали против местной автономии. Даже так называемые положения о самоуправлении, включенные в конституции некоторых или наших штатов для обеспечения муниципального самоуправления, были в значительной степени неэффективными из-за возложенной на них судебной конструкции.
Отказ судов признать право на местное самоуправление привел к зависимости от правительства штата и выработал у него привычку обращаться к правительству штата за осуществлением многих полномочий, которые должны находиться под строгим контролем местных органов власти.То, что нам следует проводить более четкое различие, чем в прошлом, между вопросами общего и чисто местного значения, очевидно для любого, кто уделял много внимания вопросу политической организации. Быстрое увеличение правительственных функций в течение последних десятилетий, постоянно растущий объем государственного бизнеса и, как следствие, неспособность правительства штата удовлетворительным образом справляться с большим количеством и разнообразием интересов, общих и местных, за которые оно несет ответственность. При любой схеме централизованного управления необходимо освободить правительство штата от таких функций как сугубо местного по своему характеру.Очевидно, что в интересах экономии и эффективности оставить решение всех вопросов местной политики на усмотрение непосредственно заинтересованного сообщества, при условии, конечно, что любое действие местной власти всегда и по необходимости должно осуществляться такому общему надзору, как может потребоваться для обеспечения адекватной защиты более широких общих интересов.
Если местное самоуправление должно реально существовать в стране, мы должны найти способ закрепить в руках законодательных органов и судов признание того факта, что города являются местными сообществами с четко выраженными местными интересами, и что, поскольку поэтому они предъявляют разумные требования только тогда, когда просят разрешить им управлять своими местными делами по-своему.Где именно должна быть проведена граница, отделяющая местные дела от тех, которые подлежат государственному регулированию, — это вопрос, по которому в настоящее время существуют большие разногласия. Но хотя в некоторых случаях может быть трудно определить, является ли государственный или местный контроль правильной политикой, существуют некоторые важные функции, настолько явно локальные по своему характеру, что уместность передать их в руки местных властей очевидна. В вопросах подобного рода политика, которую следует проводить, должна определяться соответствующим городом или сообществом, при этом государство имеет только такие надзорные полномочия по апелляции от местного определения, которые могут быть необходимы для защиты общественных и частных прав.
Статус местного самоуправления в Соединенных Штатах, хотя в значительной степени обусловлен правовой теорией, разработанной и применяемой судами, в некоторой степени может рассматриваться как следствие чисто исторических фактов. В континентальной Европе многие города существовали самостоятельно до образования государств, частью которых они сейчас являются. Следовательно, в процессе политической эволюции распространение централизованного контроля над городами не полностью заслонило тот факт, что город был изначальной политической корпорацией и как таковой обладал и осуществлял полномочия и функции, соответствующие его потребностям.Имеется тенденция рассматривать его как имеющего в силу своего существования в качестве муниципальной корпорации и независимо от какого-либо предоставления полномочий центральным правительством или правительством штата такие полномочия, которые могут потребоваться для выполнения муниципальных функций. Вопрос не столько в том, в каких полномочиях ему отказала центральная власть. В Америке же государство как политическая корпорация предшествует городу. В некоторой степени это связано с тем, что город рассматривается судами как юридическое создание законодательного собрания штата, которое предоставило ему регистрацию; что у него нет четко определенной сферы деятельности, в которую правительство штата не могло бы вторгаться; что такие полномочия, которые могут быть разрешены к осуществлению, делегируются правительством штата; и что при их осуществлении он, согласно теории права, действует не как местная политическая корпорация с изначальными полномочиями на самоуправление, а как простой агент правительства штата.
В Америке штат — единственная местная единица, имеющая первоначальные полномочия на самоуправление. Тем не менее, государство — это чисто произвольное деление, в то время как город, с другой стороны, является естественной и органической единицей со своими собственными интересами. По этой причине самоуправление является вопросом первостепенной важности для городов — более важным для адекватной защиты их интересов, чем самоуправление для государства.
Ни одно правительство штата не компетентно определять вопросы местной политики.Это особенно верно в тех случаях, когда законодательные органы штата распределены так, что сельские районы в большей степени представлены в ущерб городским общинам. Поскольку наши правительства штатов в настоящее время организованы, нередко города имеют очень недостаточное представительство в законодательных органах штата и, следовательно, находятся в очень невыгодном положении по сравнению с сельскими районами штата. [в 21 веке баланс изменился, так что городские центры эффективно определяют политику для сельских сообществ. Имейте это в виду, читая дальше по этому вопросу — Бен] Такое непропорционально малое представительство городского населения не только способствовало принятию на себя местных функций правительством штата, лишая городские сообщества возможности оказывать эффективное сопротивление этому расширению штата. власти, но это также сделало законодательный орган штата менее компетентным в решении местных дел.Но законодательный орган, даже если он правильно распределен, не может и не может представлять различные местные интересы государства. Он имеет репрезентативный характер в истинном и демократическом смысле этого термина только постольку, поскольку касается вопросов, касающихся государства в целом. Во всех законодательных актах, касающихся муниципальных дел, сельские жители ни перед кем не несут политической ответственности. Какой интерес, например, у представителей чисто сельскохозяйственного сообщества к законодательству, касающемуся муниципальных услуг? У людей такого рода нет проблем подобного рода, это не вопрос, который их беспокоит, и участие, которое их представитель может принять в принятии мер подобного рода, может не привлекать даже такого внимания, как мимолетное внимание.В отношении такого законодательства он может голосовать по своему усмотрению без риска подвергнуться критике или недовольству своих избирателей.
Централизация власти не только сделала правительство безответственным в том, что касается подразумеваемых полномочий, но и, как правило, делает народный контроль неэффективным даже при выполнении функций, которые явно назначаются демократической теорией. Развитие современной социальной и экономической жизни настолько увеличило потребность в государственном регулировании, что даже при децентрализованной форме политической организации объем бизнеса, доверенного государственным органам, слишком велик и слишком сложен для того, чтобы общественность могла с умом следовать.Нагрузка правительства множеством функций, которые оно не может выполнять, ведет к еще большей путанице и делает его менее эффективным инструментом для выполнения тех функций, которые обязательно его касаются.
За расширением избирательного права последовало, как мы видели, заметное усиление государственного вмешательства в местные дела. Основной причиной этого движения за централизацию власти в правительстве штата был страх перед муниципальной демократией. Но расширение избирательного права, которого так опасаются консерваторы, в конце концов не сделало муниципальное правительство каким-либо эффективным образом ответственным перед большинством избирателей.Организованное во многих случаях на основе плана сдержек и противовесов, как, например, наше правительство штата и федеральное правительство, муниципальное управление было очень неудовлетворительным инструментом демократии. Однако в ответ на популярную потребность в реформе в первом и втором десятилетии двадцатого века города реорганизовывались в соответствии с демократическими принципами. Интересное совпадение, что как раз в это время должен был быть дан новый импульс движению к государственному контролю над местными делами.Утверждалось, что местный контроль над такими вопросами, как коммунальные услуги, был неадекватным и неудовлетворительным. Но тот факт, что это возражение не было высказано до тех пор, пока не началось движение за демократизацию местного самоуправления, вероятно, в некоторой степени, по крайней мере, указывает как на его истинный источник, так и на реальную цель. Хотя якобы он был разработан для того, чтобы дать городам более эффективную защиту от злоупотреблений коммунальными услугами, он не был вызван каким-либо массовым спросом со стороны городских сообществ. Инициатива в этом вопросе, как бы искусно она ни принимала вид народного движения, в значительной степени исходила из интересов, которые противостояли эффективному регулированию со стороны государственных или местных властей.
Удовлетворительное регулирование — это не просто вопрос о передаче этой функции в руки того правительственного агентства, которое, как кажется, подразумевается в большей части дискуссии о замене местного контроля на государство. Полномочия на выполнение определенной функции не имеют большого значения, если нет надлежащей гарантии того, что такие полномочия будут осуществляться в интересах местного населения, для защиты которого они предназначены. Это можно рассматривать как устоявшийся принцип политической науки, согласно которому для обеспечения удовлетворительного и эффективного осуществления данной власти ее следует передать в какое-либо государственное учреждение, непосредственно ответственное перед затронутым округом.Здесь мы находим слабое место в политике централизации контроля в правительстве штата. Государственному агентству, теоретически ответственному перед всем государством, можно безопасно наделить полномочия, которые касаются государства в целом; но когда правительство штата принимает на себя полномочия, которые по сути являются местными, оно не несет ответственности в том смысле, что когда оно осуществляет полномочия, в которых государство в целом непосредственно и жизненно заинтересовано. Сообщество или общины, затронутые осуществлением местных властей, не имеют возможности контролировать их.По этой причине распространение государственного контроля над местными делами не отвечает требованиям демократии.
Принятие правительством штата местных полномочий значительно увеличило возможности для коррупции в американской политике. Однако сторонники централизации полностью проигнорировали этот аспект вопроса. Фактически, они даже защищали расширение государственного контроля над местными делами на том основании, что это имеет тенденцию устранять основные источники коррупции в муниципальной политике.Этот аргумент был выдвинут в поддержку недавнего движения комиссий по коммунальным услугам, из-за которого города по всей территории Соединенных Штатов были в значительной степени лишены возможности регулировать местные коммунальные услуги. Утверждение о том, что такая передача власти устранила бы определенные источники коррупции в местной политике, может быть допущено, без признания того, что это было бы выгодно либо для местного населения, либо для государства в целом. Очевидно, что интересы, стремящиеся к привилегиям за счет людей, не будут склонны коррумпировать местное правительство, которое имело право предоставлять их.Однако вместо того, чтобы покончить с коррупцией, она просто перенесет эту коррупцию на более широкую политическую арену. А когда правительство штата как таковое берет на себя и выполняет исключительно местные функции, оно гораздо более подвержено коррупции, чем местное правительство, непосредственно ответственное перед местным населением. Это, без сомнения, одна из важных причин, по которой общественные интересы благоприятствуют государственному контролю.
Демократия в полном смысле этого слова возможна только тогда, когда существует максимально возможная мера местного самоуправления.Это видно из того факта, что проблема создания и поддержания ответственного перед народом государства наименее сложна в небольших местных подразделениях. Трудности на пути эффективного народного контроля увеличиваются с увеличением размера государственного аппарата. Мало того, что голос гражданина на местных выборах более эффективен, чем на выборах штата или страны, но и официальные лица находятся под его влиянием в большей степени. Его влияние в случае местного самоуправления не ограничивается днем выборов.Рядом находится городская ратуша, и к местным чиновникам легко добраться, если они выразят одобрение или неодобрение официальному поведению. Из-за такой близости чиновников к публике, которую они представляют, местное правительство с большей вероятностью будет подвержено влиянию мнения всех важных классов населения, бедных и богатых, чем правительство штата или федеральное правительство. Бедные, конечно, всегда находятся в невыгодном положении по сравнению с богатыми в том, что касается их влияния, даже в случае местного самоуправления.Но чем дальше люди, наделенные политической властью, будут удалены от людей, которых они должны представлять, тем больше вероятность того, что они подпадут под влияние организованного богатства. Так называемое представительное правительство наиболее внимательно относится к тем интересам, которые постоянно поддерживают с ним связь через эффективную организацию. Интересы крупного бизнеса давно осознали тот факт, что их прибыль напрямую зависит от государственной политики, и, следовательно, использовали власть такой организации для получения желаемого законодательства или для отмены мер, против которых они выступают.
Фермеры страны, хотя и представляют больше голосов и больше богатства, задействованного в производстве, чем все другие группы, владеющие капиталом вместе взятые [больше не — Бен], не смогли реализовать должную долю политического влияния из-за отсутствия эффективного сотрудничества для этой цели. Эта ситуация частично, без сомнения, связана с трудностью обеспечения совместных усилий там, где задействовано большое количество людей. [… И подавление популистского движения капиталом в 1870-80-х годах — Бен] Более того, по характеру своего занятия фермеры более индивидуалистичны, чем бизнесмены или наемные работники.
Влияние среднего человека на политику правительства можно считать незначительным, поскольку его интерес к законам, находящимся на рассмотрении, невысок. Он может думать о предлагаемой мере как о полезной или вредной, но в любом случае ожидаемые им последствия вряд ли будут иметь для него достаточное значение, чтобы побудить его к политической деятельности. Вообще говоря, усилие, которое он готов предпринять, в большей степени зависит от того, каким образом, по его мнению, будут затронуты его индивидуальные интересы, чем от каких-либо соображений о том, что можно назвать общим благосостоянием.Трудящийся человек и человек с небольшим достатком как личности неспособны оказывать сколько-нибудь заметное влияние на правительство, столь далекое от людей в целом, как наше федеральное правительство. Только благодаря организации и сотрудничеству они могут защитить свои интересы, и очень трудно добиться исключений, когда, как считается, на карту поставлены многие аспекты личных или имущественных прав. Это, вероятно, объясняет, почему наемные работники во многих отраслях были организованы более эффективно, чем фермеры.Организованный капитал настолько явно поставил под угрозу их личные права, что организация труда была сочтена необходимой в оборонительных целях. Фермер медленнее реагировал на эту тенденцию не только из-за своего более ярко выраженного индивидуализма, но и из-за того, что его потребность в организации была менее острой. [sic]
Преобладание политического влияния капиталистических групп лишь отчасти объясняется превосходной способностью деловых людей к эффективному сотрудничеству; в значительной степени это связано с высокоцентрализованным экономическим контролем, который стал правилом в капиталистических отраслях.В некоторой степени крупномасштабная организация может указывать на способность к сотрудничеству, но высокоцентрализованный контроль, который сейчас преобладает во многих отраслях, является не более плодом экономического сотрудничества, чем высокоцентрализованное государство является выражением политической демократии. В самом деле, сотрудничество и централизация по своей сути противоположны, поскольку первое подразумевает распространение власти и обеспечит необходимое объединение усилий без применения принуждения.
Общественные интересы, вероятно, будут меньше рассматриваться нашим национальным законодательным органом, чем важные особые интересы, по той простой причине, что не существует адекватной, постоянной, активной, народной поддержки первых, в то время как последние всегда представлены активное и агрессивное лобби.Чисто финансовый интерес людей в целом в предлагаемой мере может быть и обычно намного больше, чем у отдельной группы, которая стремится реализовать ее за счет общественности; но поскольку первый представляет собой широко распространенный интерес, он обычно не представлен, в то время как последний, поскольку он высококонцентрирован и более интенсивен, оказывает влияние, непропорционально его реальному экономическому и социальному значению. В отраслях, где владение и контроль сильно централизованы, интерес бизнеса к политике наверняка будет наибольшим.Фактически, именно стремление к власти было одним из наиболее важных факторов в обеспечении централизованного контроля над промышленностью. Это не только значительно увеличило влияние бизнеса в области политики, но и усилило его способность диктовать условия труда и цены для потребителей.
Чтобы сделать централизацию экономической власти приемлемой для общества, она была представлена как средство достижения эффективности и экономии в производстве. Более того, сторонники централизованной промышленности всегда считали, что такие выгоды в значительной степени достаются широкой публике.На самом деле, однако, концентрация экономического контроля была предназначена не больше для увеличения богатства и доходов масс, чем централизация политической власти была предназначена для усиления народного контроля.
Умный демократ может быть склонен задаться вопросом, как кто-то мог поверить в то, что централизация экономической и политической власти имеет тенденцию вызывать распространение экономического и политического благосостояния. Но многие люди, испытывающие сентиментальную привязанность к демократии, не имеют адекватного понимания политической философии, на которой основано правление народа.Если бы значительная часть широкой публики всегда обладала этим интеллектом, софистика и искажение фактов, которые всегда занимали такое большое место в дискуссиях и политической литературе, были бы гораздо менее эффективны для введения в заблуждение общественного мнения.
Высокоцентрализованная экономическая система по своей сути противостоит децентрализации в правительстве. Если те, кто контролирует промышленность, должны иметь возможность свободно использовать эту власть в своих целях, они должны контролировать государство, поскольку политическая демократия определенно подчинит экономическую власть ограничениям, налагаемым для защиты общества.Более того, крупномасштабная промышленность, работающая на предприятиях национального и даже международного масштаба, нетерпима к разнообразию законов и политик, которое неизбежно при любой системе местного регулирования.
~ 30 ~
Централизация власти и верховенство закона в «новую эру» Китай | SPF China Observer EN
Первый Всекитайское собрание народных представителей второго срока Си Цзиньпина было проведено в 2018 году. Поправка к конституции, отменяющая ограничения сроков полномочий президентов на этом Всекитайском собрании народных представителей, сделала эту тему горячей темой в средствах массовой информации во всем мире.
Оглядываясь назад, можно сказать, что большинство средств массовой информации сосредоточили внимание на новых членах Постоянного комитета Политбюро на 19-м Национальном конгрессе Коммунистической партии Китая (19-й Конгресс) в прошлом году в попытке оценить степень власти Си Цзиньпина. захватить в зависимости от того, кто был перемешан.
В дополнение к отсутствию явного преемника Си Цзиньпина в Постоянном комитете, выделялась критика централизации власти с Си Цзиньпином и диктатура, созданная на основе «Мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями для нового. Эра », закрепленная в Конституции КПК в качестве ее основного принципа, но, похоже, было мало анализа того, к чему стремится Китай, и ориентации его политики в целом при коммунистическом правительстве.
Однако, поскольку о поправке к Конституции стало широко известно, похоже, что существует больший интерес не только к борьбе за власть внутри руководства, но и к китайской политике в целом. Здесь я попытаюсь расшифровать текущие изменения в китайской политике с точки зрения централизации власти и верховенства закона.
*
Политический стиль Си Цзиньпина часто называют «нарушением условностей». Однако, вопреки образу наглой борьбы за власть, распространяемому в СМИ, Си рисует видение будущего, которое является продолжением прошлого, характеризующимся сильной политической зависимостью, а не новаторством.Сама концепция «социализма с китайскими особенностями» вряд ли оригинальна, поскольку Дэн Сяопин начал использовать ее примерно в 1984 году. Более того, «пять в одном» (экономическое, политическое, культурное, социальное и экологическое строительство цивилизации), называемое Общая схема социалистического строительства при администрации Си представляет собой основу, которая таким же образом наследует идеи администрации Ху Цзиньтао и «четыре концепции» Си (всестороннее завершение умеренно процветающего общества, всестороннее углубление реформ, всестороннее продвижение верховенство закона, а также всестороннее и строгое управление партией) на самом деле представляют собой совокупность прошлой политики, которую отстаивали Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао.Кроме того, мы можем найти элементы, напоминающие эпоху Мао Цзэдуна, такие как усиление авторитета отдельных лидеров и сопровождающая его концентрация лояльности, а также значительное расширение партийной власти.
Быстрая централизация власти
Каковы характеристики политики в «новую эру»? Что следует отметить в последние годы, так это тенденцию к централизации власти, при которой дисциплина и закон используются для усиления контроля над центральным правительством.Что касается дисциплины, то все еще свежа память о крупных политиках, таких как Чжоу Юнкан и Лин Цзихуа, которые были задержаны и изгнаны Центральной комиссией по проверке дисциплины при администрации Си. На самом деле, в дополнение к их удалению, многие руководители и члены партий в самых разных учреждениях, включая общественную безопасность, прокуроров, суды и вооруженные силы, были подвергнуты расследованиям и наказаны за нарушение дисциплины. Согласно отчету Ван Цишаня, в 2015 году более 330 000 человек подверглись партийной дисциплинарной или административной ответственности.[1] Что касается закона, ряд законов, рекламирующих власть закона, были быстро приняты для использования закона для усиления управления, таких как Закон о борьбе со шпионажем, Закон о национальной безопасности, Закон о борьбе с терроризмом, Иностранные Закон об управлении НПО и Закон о кибербезопасности.
Похоже, что в средствах массовой информации появляется много статей, пытающихся объяснить эти недавние события в Китае диктаторской личностью Си Цзиньпина. Однако более важным, чем личность лидеров, является развитие централизации власти в политике Китая.Макроконтроль центрального правительства усиливается при администрации Си Цзиньпина, которая рассматривает дисбаланс в социально-экономическом развитии как проблему. Например, Си Цзиньпин возглавил Центральную руководящую группу по всестороннему углублению реформ, созданную в декабре 2013 года для более глубокого участия в широком спектре областей, включая не только политическую экономию и правосудие, но также науку и технологии, экологические проблемы и продвижение виды спорта. К середине 2017 года было проведено более 30 встреч, и группа приняла более 350 только самых крупных предложений по реформе.Центральное правительство также укрепило официальную дисциплину в сельских районах, а при администрации Си Цзиньпина была значительно усилена система патрулирования Группы инспекционной работы, которая патрулирует районы для расследования дисциплинарных нарушений. Более 60 процентов проверок, проводимых Центральной комиссией по проверке дисциплины после 18-го Национального Конгресса (ноябрь 2012 г.), поступили от патрулей. [2]
Проверки дисциплины центральным правительством и соблюдение различных законов и постановлений, связанных с усилением социального контроля, являются важными средствами предотвращения образования региональных «независимых королевств» и распространения коррупции из-за децентрализации, которая прогрессировала с реформы и открытость.Указание Национальной наблюдательной комиссии в недавней поправке к конституции означает, что тенденция к усилению контроля со стороны Центрального комитета больше не является временной при администрации Си Цзиньпина. Если рассматривать нынешнюю борьбу с коррупцией при администрации Си Цзиньпина как временную борьбу за власть, это может привести к неправильному пониманию тенденций в китайской политике в будущем.
*
Исторически сложилось так, что политика Китая при правлении Коммунистической партии следовала циклическому пути, который переходил от централизации власти («сбор») к децентрализации («высвобождение»).Эпоха Мао Цзэдуна хорошо известна своей политической нестабильностью с неоднократными изменениями политики: от Первого пятилетнего плана (централизация власти) до Большого скачка (децентрализация власти) и периода перестройки (централизация власти) и Культурная революция (децентрализация власти).
Несмотря на необходимость централизации власти для тщательного осуществления политики центрального правительства по всей стране, по мере увеличения централизации власти правительство теряет организационную гибкость и творческий подход и оказывает пагубное влияние на создание укоренившейся бюрократии, которая только выполняет приказы.Хотя децентрализация власти необходима, чтобы противостоять этому, это ослабляет контроль центрального правительства. Китай — огромная территория, и отношения между центральным правительством и местными правительствами предполагают более тонкий баланс, чем предполагают японцы.
Со времен Дэн Сяопина Китай был вынужден гибко реагировать на новую рыночную экономику, поэтому были волны централизации и децентрализации власти, но в целом он в основном следовал процессу децентрализации власти для повышения региональной независимости.
Достигнув определенного уровня экономического развития, Китай сталкивается с побочными эффектами экономического развития, такими как коррупция и неравенство доходов. Учитывая такое положение дел, администрация Си Цзиньпина рассматривает широко распространенную коррупцию в сельских партийных организациях и региональный протекционизм как отрицательный эффект ослабления централизованного контроля над политической экономией и признает необходимость более сильного политического ужесточения, чем в странах Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао. администрации.[3] Таким образом, Центральный комитет значительно усиливает центральную систему патрулирования в провинциях, автономных регионах и муниципалитетах, как это видно из «Положения об инспекционной работе КПК» (2015 г.) [4], и использует ее, подавляя о нарушениях закона и дисциплины. Использование закона и дисциплины для централизации власти — одна из политических особенностей «новой эры».
Централизация власти и «верховенство закона»
Использование законов и постановлений характерно для того, как администрация Си Цзиньпина централизует власть.Администрации, предшествовавшие Си Цзиньпину, конечно, в прошлом часто подчеркивали необходимость верховенства закона. Однако впервые в истории Центрального комитета темой четвертого пленарного заседания 18-го Центрального комитета Коммунистической партии Китая в 2014 году было «всестороннее углубление реформ и продвижение законного управления Китаем», не оставляя сомнений, даже с учетом истории Коммунистической партии, что Си является лидером, который решительно поддерживает верховенство закона.
Итак, что же имеет в виду Си? Есть ли противоречие между его законностью и однопартийной диктатурой? На Центральной политической и правовой рабочей конференции в январе 2014 года Си сделал следующий комментарий по поводу взаимосвязи между политикой партии и законами государства:
«Необходимо правильно уладить взаимосвязь между политикой партии и национальным законодательством. Политика нашей партии и национальные законы являются отражением основной воли народа и по сути являются одним и тем же.Партия не только руководит людьми при формулировании конституционных законов, но также руководит их исполнением конституционных законов и постановлений … и закон обеспечивает реализацию политики партии, гарантирует, что партия находится под общим контролем, и координирует ключевые роли во всех аспектах лидерства ». [5]
Для Си, который считает, что «Партия руководит законом» и «законы обеспечивают реализацию политики партии», верховенство закона является эффективным средством усиления диктатуры и контроля Коммунистической партии и означает «власть закона ( партией) »вместо« верховенства закона ».”
Если посмотреть на содержание доклада Си Цзиньпина на 19-м Конгрессе, становится очевидным, что он установит верховенство закона с «китайскими особенностями», переплетая его с централизацией власти. Си, который стремился консолидировать процесс построения верховенства закона, возглавляемый партией, говорил о создании Центральной ведущей небольшой группы для всестороннего управления страной на основе закона в октябре 2017 года на 19-м Национальном конгрессе КПК для укрепления руководство Коммунистической партии в построении законности.Это было задумано в плане реформы 2018 года, в результате которого был повышен статус до Центрального комитета по всеобъемлющему правовому управлению. [6] Верховенство закона со стороны Центрального комитета будет и дальше укрепляться и, вероятно, ускорит усилия по регулированию общества с помощью этих законов.
Говоря о том, что Си Цзиньпин подчеркивает усиление имплементации Конституции, важно отметить, что речь идет не о защите прав граждан в соответствии с Конституцией, о которой обычно думают японцы, а, скорее, об усилении коммунистической партии. его авторитет.Си пытается укрепить легитимность Коммунистической партии Китая на основе Конституции, объясняя: «Конституция нашей страны — это основополагающий закон, отражающий результат того, что партия привела народ к революции, строительству и реформам, и устанавливает руководство Коммунистической партии Китая, сформированное историей и волей народа ». [7] Кроме того, Си, Лю Юньшань, Ван Цишань и Чжан Гаоли также отредактировали раздел справочника 19-го Конгресса под названием «Почему необходимо поддерживать всеобъемлющее правовое управление?» со следующим дополнительным комментарием, который следует отметить.
«В последние годы вражеские силы на Западе и представители общества, имеющие скрытые мотивы, снисходительно прибегают к западным правовым принципам и правовым моделям, называя верховенство закона« оружием »или« моральным обязательством ». Их цель — проложить путь от проблем с верховенством закона и отрицать лидерство Коммунистической партии Китая и социалистической системы нашей страны ». [8]
Учитывая это объяснение, построение верховенства закона под руководством Центрального комитета также имеет аспект усилий в ответ на новые движения граждан (социальные движения, которые не отрицают власть Коммунистической партии, но вместо этого основываются на положениях «Основные права и обязанности граждан» в действующей Конституции), которые временно возникли в Китае.
*
Еще одним важным событием является создание Национальной надзорной комиссии. Хотя в центре внимания была поправка к Конституции, отменяющая ограничение срока полномочий президента, на самом деле большая часть поправки касалась положения Национальной контрольной комиссии в Конституции.
Эта организация стремится объединить руководство путем борьбы с коррупцией и характеризуется как направленная против всех государственных служащих, помимо Коммунистической партии (что выражается как «органическое объединение партийного надзора и государственного надзора»).Это организация в форме пирамиды с Центральным комитетом на вершине, состоящая из инспекционных комитетов на уровне штата, провинции, города и округа. Это также «совместное правительственное агентство» (сотрудничающее по вопросам политики с несколькими организациями), имеющее тот же ранг, что и Центральная комиссия по проверке дисциплины. [9]
Кроме того, в марте 2018 года Всекитайское собрание народных представителей приняло Закон о национальном надзоре, расширяющий масштабы борьбы с коррупцией со стороны организаций коммунистической партии на государственные предприятия, а также на всех государственных служащих, включая образовательные учреждения.[10] Речь идет не просто о расширении сферы партийного контроля. Эта система мониторинга привязана к центральной системе патрулирования, усиленной при администрации Си Цзиньпина, и центральный контроль через дисциплину и закон, вероятно, будет еще более усилен в будущем. [11]
Новый эксперимент китайского «слияния диктатуры и закона»
Со времен Дэн Сяопина Коммунистическая партия Китая взяла на себя вызов грандиозного эксперимента однопартийной диктатуры, сочетающей социализм с рыночной экономикой.Многие отрицательно относятся к этому эксперименту, и, хотя было время, когда некоторые круги распространяли теорию о крахе Китая, результаты показали, что диктатура Коммунистической партии сохранилась и экономика значительно выросла.
И теперь, когда он достиг значительного развития, в Китае администрацией Си Цзиньпина проводится новый эксперимент, названный «слиянием диктатуры и закона». Недавняя поправка к конституции показала нам, что произошли различные изменения.
В прошлом политические реформы Дэн Сяопина были сосредоточены на отделении партийных функций и организаций от государственных. Заявив, что «когда вы открываете окна, вы должны ожидать, что сюда прилетят мухи», он продвигал децентрализацию и реформы и открытость, когда определенная степень коррупции становится очевидной. В отличие от таких усилий эпохи Дэн Сяопина, нынешняя администрация пытается усилить контроль над Центральным Комитетом, используя закон и дисциплину, одновременно запрещая коррупцию.В результате возможность демократических политических реформ значительно уменьшилась.
Дэн Сяопин также пережил жесткую борьбу за власть, которая привела к гибели Лю Шаоци и Линь Бяо, и он хорошо осознавал трудности передачи власти в условиях однопартийной диктатуры, поэтому он построил механизм смены поколений, который ограничивал возможности сроки президентов. Однако, поскольку ограничение на количество президентских сроков в настоящее время отменено, политическая система при президенте Си Цзиньпине переживает важный поворотный момент.В этом смысле «социализм с китайскими особенностями» вступил в «новую эру». Как видно из поправки к Конституции, централизация власти продвигается вперед законами и дисциплиной, и укрепление системы диктатуры Коммунистической партии, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем.
Однако весьма вероятно, что это создаст бюрократическую тенденцию к церемониальному выполнению только официальных приказов сверху под страхом репрессий, поскольку партия и государство связаны законом и дисциплиной.В результате это означает, что политическая гибкость и способность вносить коррективы в политику, которые являются важными источниками жизнеспособности Коммунистической партии, будут потеряны.
Оглядываясь на прошлое, можно сказать, что успех реформ и открытости в Китае не был достигнут только силой Дэн Сяопина. В Китае того времени были уникальные лидеры, такие как реформатор Ху Яобан и сознательный и консервативный Чэнь Юнь, и Коммунистическая партия нашла в некоторой степени сбалансированную политическую основу среди различных мнений.
Дэн Сяопин сохранял власть среди противоречивых личностей в руководстве и обладал престижем и чувством равновесия, чтобы продвигать реформы и политику открытости, но в настоящее время, похоже, нет места для противоречивых политических мнений в администрации Си Цзиньпина. Другими словами, сила Си Цзиньпина, свидетелями которой все стали после 19-го Конгресса, также является слабостью нынешней администрации.
Централизация власти, безусловно, ускорит процесс принятия решений, и даже если есть проблемы с политикой, определяемой Центральным комитетом, оппозиции будет мало.Однако в таких обстоятельствах может быть трудно найти баланс в политике. Ослабление системы коллективного руководства может дать Си Цзиньпину свободу действий в отношении политики, но когда это не удастся, критика лидеров будет более интенсивной. Правовая институционализация подавления коррупции может уменьшить коррупцию, но, с другой стороны, нельзя отрицать возможность политической борьбы с использованием проверок дисциплины, которая ввергает партийную организацию в хаос. (Коммунистическая партия уже испытала такие организационные потрясения в своей основе в революционный период).Как будет сохранена политическая гибкость и усилен центральный контроль, умело избегая этих проблем? В дальнейшем он требует, чтобы администрация Си Цзиньпина осторожно двигалась в воде.
(от 23 апреля 2018 г.)
1
Ван Цишань «全面 従 严 治 党 把 纪律 挺 在 前面 忠诚 履行 党章 赋 与 的 神圣 职责», 12 января 2016 г.
«的 一 八大 以来 中央 纪委 历次 全会 工作 报告 汇编», Пекин, Law Press, 2016 г., стр. 135.
2 «党 的 一九 大 报告 学习 补 导 百 问», Пекин, издательство Gakushu Publishing House, издательство Party Building Books, 2017, стр.6.
3 Си Цзиньпин, «’中共中央 关於 全面 推进 依法 治国 重大 问题 的 決定’ 的 说明», (20 октября 2014 г.), 十八 大 以来 重要 文献 选编, Пекин, Central Party Literature Press, 2016, стр.140- 154.
4
Центральный комитет Коммунистической партии Китая, 中国 共产党 巡视 工作 条例 (13 августа 2018 г.), Центральная комиссия по проверке дисциплины, веб-сайт Министерства надзора Китайской Народной Республики
[href = «http://www.ccdi.gov.cn/special/xstl/yw_xstl/201508/t20150814_60554.html] (по состоянию на 3 июня 2018 г.)
5 Тонг Лихуа, «十八 大 以来 的 法治 变革», Пекин, Народное издательство, 2015 г., стр. 23
6
«Центральный комитет Коммунистической партии Китая‘ 深化 党 和 国家 机构 改革 法案 ’» (21 марта 2018 г.),
[http://www.xinhuanet.com/2018-03/21/c_1122570517.htm impression (Доступно 19 мая 2018 г.)
7 Там же.
8 前 掲 «党 的 一九 大 报告 学习 补 导 百 问», стр. 47-48.
9 Редакторы, «十九 大 报告 关键词», Пекин, Издательство Party Building Books, 2017, стр.170-171.
10
«Закон о национальном надзоре Китайской Народной Республики» (принят на 13-м Всекитайском собрании народных представителей Китайской Народной Республики 20 марта 2018 г.), People’s Daily Online
[http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2018-03/21/content_2052362.htm] (дата обращения 19 мая 2018 г.)
11
Контент о патрулировании с веб-сайтов Центральной комиссии по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.
[http: // www.ccdi.gov.cn]
уроков от церкви, государства и корпорации (Кембриджские исследования в области сравнительной политики): Коллман, Кен: 9781107616943: Amazon.com: Книги
«Теоретики организации в социальных науках, от политологии до экономики и истории, получат прибыль от амбициозной попытки Кена Коллмана провести организационный анализ в национальном государстве, церкви, бизнесе и политическом союзе и обнажить силы, ведущие к усиление централизации. Ожидайте, что эта книга положит начало оживленной дискуссии по этим дисциплинам! » — Жак Кремер, Тулузская школа экономики«Теория централизации Кена Коллмана идет вразрез с общепринятым мнением, но использует политологию для изложения аргумента, который будет обсуждаться в ближайшие годы.Ключевое утверждение состоит в том, что разделение властей между центральными исполнительными и конституционными единицами стимулирует процесс прогрессивной централизации. Коллман умело и чутко развивает аргументы в тщательно исследованных случаях. Шаг за шагом, кризис за кризисом, это была траектория Соединенных Штатов, Католической церкви и GM Motors. Только Евросоюз — это незавершенное дело. Это смелая, красиво написанная статья, которая, вероятно, вызовет оживленную дискуссию ». — Лисбет Хуг, В.Р. Кенан, заслуженный профессор политологии Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и кафедра многоуровневого управления, Университет Амстердамского университета
Исследует историю правительства США, Католической церкви, General Motors и Европейского Союза как примеры федеративных систем, которые централизовали власть.
Об авторе
Кен Коллман — профессор Фредерика Г. Л. Хетвелла, профессор политологии и директор Международного института Мичиганского университета.Он написал множество книг и статей о политических партиях, политических организациях и выборах. Его исследования и письменные работы были отмечены множеством наград и внесли свой вклад в различных областях, таких как вычислительная социальная наука, сравнительная и американская политика, исследования Европейского Союза, а также сравнительные политические партии и выборы. Он является главным исследователем Архива выборов на уровне округов, крупнейшего в мире хранилища данных о результатах выборов.
Эффект политической повестки дня и централизация государства
Аннотация
Мы даем возможное объяснение, основанное на «эффекте политической повестки дня», отсутствию и нежеланию создавать централизованную власть в руках национального государства.Государственная централизация побуждает граждан разного происхождения, интересов, регионов или этнических групп координировать свои требования в направлении более общих общественных благ, а не ограниченных перемещений. Этот эффект политической повестки дня повышает эффективность требований граждан и побуждает их увеличивать свои вложения в конфликтную способность. В отсутствие государственной централизации граждане не обязательно объединяются из-за другой силы, эффекта эскалации, который относится к тому факту, что элиты из разных регионов объединят свои силы в ответ на действия граждан.Такая эскалация может нанести ущерб группам граждан, которые уже решили свою проблему коллективных действий (хотя это принесет пользу другим). Предвидя взаимодействие политической повестки дня и эффектов эскалации, при некоторых конфигурациях параметров политические элиты стратегически выбирают нецентрализованное государство. Мы показываем, как модель генерирует немонотонную сравнительную статику в ответ на увеличение ценности или эффективности общественных благ (так что централизованное государство и обеспечение общественного блага могут отсутствовать именно тогда, когда они более выгодны для общества).Мы также предполагаем, как формирование социал-демократической партии может иногда вызывать централизацию государства (устраняя ценность приверженности нецентрализованного государства), и как элиты могут иногда предпочитать частичную централизацию государства.
Отдел
Массачусетский Институт Технологий. факультет экономикиЖурнал
Журнал сравнительной экономики
Цитата
Acemoglu, Daron et al. «Эффект политической повестки дня и централизация государства.Журнал сравнительной экономики, 48, 4 (май 2020): 749-778 © 2020 Автор (ы)
Версия: окончательная опубликованная версия
Обзор, основные преимущества и недостатки
Что такое централизация?
Централизация относится к процессу, в котором деятельность, связанная с планированием и принятием решений в рамках организации, Корпоративная структура, относится к организации различных отделов или бизнес-единиц внутри компании. В зависимости от целей компании и отрасли сосредоточены на конкретном лидере. Черты лидерства. Черты лидерства относятся к личным качествам, которые определяют эффективных лидеров.Лидерство относится к способности человека или организации направлять отдельных лиц, команды или организации к достижению целей и задач. Лидерство играет важную роль в управлении или местонахождении. В централизованной организации полномочия по принятию решений сохраняются за головным офисом, а все остальные офисы получают команды из главного офиса. Руководители и специалисты, принимающие важные решения, находятся в головном офисе.
Точно так же в централизованной правительственной структуре полномочия по принятию решений сосредоточены наверху, а все остальные нижние уровни следуют указаниям, исходящим от вершины организационной структуры.
Преимущества централизации
Эффективная централизация дает следующие преимущества:
1. Четкая цепочка команд
Централизованная организация извлекает выгоду из четкой цепочки команд, потому что каждый человек в организации знает, к кому отчитываться к. Младшие сотрудники знают, к кому обращаться, если у них есть опасения по поводу организации. С другой стороны, руководители высшего звена следуют четкому плану делегирования полномочий сотрудникам, которые преуспевают в определенных функциях.Руководители также получают уверенность в том, что, когда они делегируют обязанности менеджерам среднего звена и другим сотрудникам, совпадений не будет. Четкая цепочка подчинения полезна, когда организации необходимо выполнять решения быстро и единообразно.
2. Сфокусированное видение
Когда организация следует централизованной структуре управления, она может легко сосредоточиться на реализации своего видения. Существуют четкие линии коммуникации, и высшее руководство может донести до сотрудников видение организации и направить их к достижению этой цели.При отсутствии централизованного управления передача сообщений сотрудникам будет непоследовательна, поскольку не существует четких границ полномочий. Управление видением организации сверху позволяет беспрепятственно претворять в жизнь ее видение и стратегии. Заинтересованные стороны организации Заинтересованная сторона В бизнесе заинтересованная сторона — это любое лицо, группа или сторона, заинтересованная в организации и результатах ее действий. Общие примеры, такие как клиенты, поставщики и сообщества, также получают единообразное сообщение.
3. Снижение затрат
Централизованная организация придерживается стандартных процедур и методов, которыми руководствуется организация, что помогает сократить офисные и административные расходы. SG & ASG&A включает все непроизводственные расходы, понесенные компанией в любой данный период. Сюда входят такие расходы, как аренда, реклама, маркетинг. Основные лица, принимающие решения, находятся в головном офисе или штаб-квартире компании, поэтому нет необходимости в развертывании дополнительных отделов и оборудования в других филиалах.Кроме того, организации не нужно нести дополнительные расходы по найму специалистов для своих филиалов, поскольку важные решения принимаются в головном офисе, а затем доводятся до сведения филиалов. Четкая цепочка подчинения сокращает дублирование обязанностей, которое может привести к дополнительным расходам для организации.
4. Быстрое выполнение решений
В централизованной организации решения принимаются небольшой группой людей, а затем передаются руководителям более низкого уровня.Участие всего нескольких человек делает процесс принятия решений более эффективным, поскольку они могут обсуждать детали каждого решения на одной встрече. Затем решения передаются на более низкие уровни организации для реализации. Если менеджеры более низкого уровня вовлечены в процесс принятия решений, процесс займет больше времени и возникнут конфликты. Это сделает процесс реализации длительным и сложным, поскольку некоторые менеджеры могут возражать против решений, если их вводные данные игнорируются.
5. Повышение качества работы
Стандартизированные процедуры и лучший контроль в централизованной организации приводят к повышению качества работы. В каждом отделе есть руководители, которые следят за тем, чтобы результаты были единообразными и высокого качества. Использование современного оборудования снижает потенциальные потери от ручной работы, а также помогает гарантировать высокое качество работы. Стандартизация работы также снижает дублирование задач, что может привести к высоким затратам на рабочую силу.
Недостатки централизации
Ниже перечислены недостатки централизации:
1. Бюрократическое руководство
Централизованное управление напоминает диктаторскую форму лидерства, при которой от сотрудников ожидается только достижение результатов в соответствии с тем, что назначают высшие руководители. их. Сотрудники не могут участвовать в процессе принятия решений в организации, и они просто реализуют решения, принятые на более высоком уровне.Когда сотрудники сталкиваются с трудностями при реализации некоторых решений, руководители не поймут, потому что они всего лишь лица, принимающие решения, а не их исполнители. Результатом таких действий является снижение производительности, поскольку у сотрудников отсутствует мотивация для реализации решений, принятых руководителями высшего звена, без участия сотрудников более низкого уровня.
2. Дистанционное управление
Руководители организации находятся под огромным давлением, требующим формулирования решений для организации, и им не хватает контроля над процессом реализации.Неспособность руководителей децентрализовать процесс принятия решений добавляет много работы их рабочим столам. Руководители страдают от нехватки времени, чтобы контролировать выполнение решений. Это приводит к нежеланию сотрудников. Следовательно, руководители могут в конечном итоге принять слишком много решений, которые либо плохо выполняются, либо игнорируются сотрудниками.
3. Задержки в работе
Централизация приводит к задержкам в работе, поскольку записи отправляются в головной офис и из него.Сотрудники полагаются на информацию, передаваемую им сверху, и в случае задержек с передачей записей будут потеряны человеко-часы. Это означает, что сотрудники будут менее продуктивны, если им придется долго ждать, чтобы получить рекомендации по их следующим проектам.
4. Недостаток лояльности сотрудников
Сотрудники становятся лояльными к организации, когда им разрешается личная инициатива в работе, которую они выполняют. Они могут представить свое творчество и предложить способы выполнения определенных задач.Однако при централизации нет инициативы в работе, потому что сотрудники выполняют задачи, задуманные высшим руководством. Это ограничивает их творческий потенциал и преданность организации из-за жесткости работы.
Резюме
Централизация — это система, в которой полномочия по принятию решений сосредоточены у нескольких лидеров на вершине организационной структуры. Решения принимаются на высшем уровне и передаются менеджерам более низкого уровня для реализации.
Прочие ресурсы
CFI — ведущий поставщик услуг по обучению и продвижению по карьерной лестнице для финансовых специалистов, включая аналитика финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Стать сертифицированным аналитиком финансового моделирования и оценки (FMVA) ® Финансовое моделирование и оценка CFI Сертификация аналитика (FMVA) ® поможет вам обрести уверенность в своей финансовой карьере. Запишитесь сегодня! программа сертификации. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы CFI:
- Корпоративная стратегия Корпоративная стратегия Корпоративная стратегия фокусируется на том, как управлять ресурсами, рисками и доходностью в рамках всей фирмы, а не на поиске конкурентных преимуществ в бизнес-стратегии
- GroupthinkGroupthinkGroupthink — термин, разработанный социальным психологом Ирвингом Дженисом в 1972 году для описания ошибочных решений, принятых группой из-за группового давления.Групповое мышление — это явление, при котором способы решения проблем или вопросов решаются на основе консенсуса группы, а не отдельных лиц, действующих независимо.
- Корпоративное развитие Corp Dev также использует возможности, позволяющие повысить ценность бизнес-платформы компании.
- Лидерство с помощью примера Лидерство с помощью примера Лидерство — это процесс, в котором человек влияет на поведение и отношения других людей.
